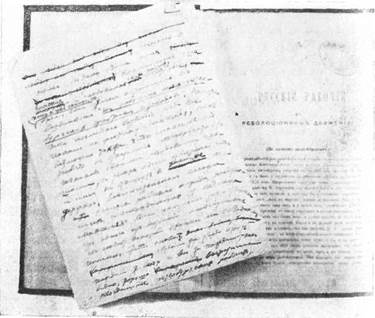(По личным воспоминаниям)
Лицам, произнесшим речи
На собраниях петербургских рабочих, состоявшихся
по поводу всемирной демонстрации 1-го мая 1
Дорогие и уважаемые товарищи.
Вам, продолжающим дело революционеров семидесятых годов, принадлежат по праву эти воспоминания, о которых я могу с чистой совестью сказать, что они написаны совершенно правдиво. Позвольте же мне посвятить их Вам и тем представить хоть слабое доказательство моего сочувствия Вашим стремлениям. Мы, социал-демократы, готовы поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего общественного порядка. Тем понятнее наше сочувствие Вам, решительно ставшим под социал-демократическое знамя, которое является теперь знаменем революционного пролетариата всех стран. У нас нет и не будет другой задачи, кроме посильного содействия развитию политического сознания русского рабочего класса. Вы поставили себе ту же самую задачу. Пойдем же вместе к нашей великой цели, пойдем без оглядок и без колебаний, поддерживаемые гордою уверенностью в том, что мера наших успехов будет мерой политического развития нашей родины. Ваш предшественник, рабочий Петр Алексеев, еще в 1877 г. смело сказал своим судьям, что когда поднимется мускулистая рука рабочего — ярмо деспотизма, окруженное солдатскими штыками, разлетится в прах 2. К его словам можно и должно прибавить, что только тогда и разлетится в прах ярмо деспотизма, когда поднимется мускулистая рука рабочего.
Предисловие но второму изданию
Народники семидесятых годов смотрели на крестьянство как на главную в России революционную силу, а на крестьянскую поземельную общину как на исходную точку развития нашей страны в сторону социализма.
51
Развитие у нас товарного производства и крупной капиталистической промышленности представлялось им весьма плачевными явлениями, расшатывающими прочность старых «устоев» экономической жизни нашего народа и потому задерживающими приближение социальной революции. Поэтому деятельность в рабочей среде никогда не занимала широкого места в народнической программе: рабочими интересовались лишь в той мере, в какой считали их способными поддержать крестьянское восстание, которое, по мнению народников, должно было вспыхнуть вдали от промышленных центров, на окраинах, еще не позабывших крупных 3 крестьянско-казацких бунтов и хранящих строго «народные идеалы» *. Казалось бы, что при таком взгляде на рабочих народники могли не торопиться сближением с ними: прежде чем бороться за организацию вспомогательного отряда, естественно было озаботиться организацией главных сил будущей революционной армии, т. е. сил крестьянства. Но на самом деле народники занимались рабочими более, чем этого требовала эта программа 4. Народники были энергичные люди, не любившие сидеть сложа руки. Многие из них, попадая в города, сближались с рабочими, чтобы не терять даром времени.
И хотя такое сближение не могло быть систематичным, хотя в большинстве случаев сближавшиеся с рабочими народники принимали все меры к тому, чтобы как можно скорее покинуть город и уйти в деревню, но так как в каждое данное время в городах проживало немалое число народников и так как передовой слой городского рабочего класса и тогда уже был очень восприимчив к революционной пропаганде, то рабочее дело все-таки росло и расширялось, поражая самих деятелей своей неожиданной успешностью. Первым крупным плодом сближения народников с петербургским пролетариатом явилась так называемая Казанская демонстрация 6 декабря 1876 года. А к концу семидесятых годов у народнического общества «Земля и воля» 5 был уже довольно значительный опыт по части пропаганды, агитации и организации в среде рабочих.
 * Этот взгляд на рабочих, как на класс, способный играм, лишь роль вспомогательного отряда революционной армии, целиком перешел от народников к народовольцам (см. напечатанную в «Календаре Народной воли» записку «Подготовительная работа партии», руб. Б., городские рабочие) Оно и понятно. Народовольцы недаром говорили о себе что по основным своим в o ззрениям они — социалисты- народники.
* Этот взгляд на рабочих, как на класс, способный играм, лишь роль вспомогательного отряда революционной армии, целиком перешел от народников к народовольцам (см. напечатанную в «Календаре Народной воли» записку «Подготовительная работа партии», руб. Б., городские рабочие) Оно и понятно. Народовольцы недаром говорили о себе что по основным своим в o ззрениям они — социалисты- народники.
52
В передовой статье, напечатанной в № 4 газеты «Земля и воля», я подвел итоги этому опыту. Оказывалось, что «рабочий вопрос» все чаще и все настоятельнее напоминал о себе вопреки их народнической теории, выдвигавшей на первый план вопрос крестьянский. Но в то же время очевидно было и то, что революционеры еще далеко не приобрели всего того влияния на городскую рабочую массу, которую они могли приобрести. Это я объяснял тем, что они мало агитируют. Я говорил, что революционеры придают преувеличенное значение рабочим кружкам, в которых ведется пропаганда (читаются лекции о каменном веке и планетах небесных, как выразился я, иронизируя над пропагандистами), и не видят, что необходимо расшевелить всю массу. Агитация на экономической почве,— главным образом, во время стачек,— такова была ближайшая практическая задача, на которую я указывал тем из наших товарищей, «которые занимались с рабочими».
Тогдашние члены общества «Земля и воля» тем легче согласились со мною, что вопрос о приемах нашей революционной деятельности в крестьянской среде давно был решен в том же самом смысле: никому из наших «деревенщиков» не приходило в голову вести кружковую пропаганду между крестьянами; все они твердо были убеждены в том, что приобрести влияние на крестьянскую массу они могут только посредством агитации на почве ее ближайших — и преимущественно экономических — требований. И это убеждение держалось среди наших революционеров вплоть до тех пор, пока так называемый террор не отвлек их внимания в другую сторону и пока между ними не распространился тот взгляд — впервые высказанный газетой «Народная воля»,— что при наших политических условиях работать в крестьянстве значит бесплодно «биться, как рыба об лед».
С половины восьмидесятых годов между революционерами, действовавшими в России, начали распространяться социал-демократические идеи. Распространение этих идей совершалось очень медленно частью по причине общественной реакции, наступившей после того, как правительству удалось разгромить партию «Народной воли» 6, а частью потому, что старая народническая теория еще крепко сидела в головах русских людей, сочувствовавших социализму. И все-таки к началу девяностых годов, когда стали показываться первые слабые признаки нового общественного пробуждения, число со-
53
циал-демократов было уже настолько значительно, что они задумываются о том, каким образом можно было бы им приобрести широкое практическое влияние на рабочий класс. Опыт семидесятых годов указывал на агитацию, как на неизбежный путь к этой цели. Но опыт семидесятых годов был совершенно неизвестен нашим молодым товарищам, огромнейшее большинство которых знакомо было тогда только с приемами кружковой пропаганды. Чтобы помочь этому горю, чтобы ознакомить молодых социал-демократов с практическими выводами, завещанными нам народнической эпохой, чтобы показать им, как можно и должно агитировать, я и написал свои воспоминания о русском рабочем движении семидесятых годов. Я думал, что, познакомив читателей с тем, что было сделано их предшественниками, я этим пролью некоторый свет на то, что предстоит сделать им самим. Но не мог удовольствоваться простым рассказом. В конце семидесятых годов, когда я писал в «Земле и воле» о необходимости агитации на экономической почве, я был народником до конца ногтей. В начале девяностых годов, когда я брался за перо, чтобы писать свои воспоминания, увлечение народничеством давно уже заменилось во мне критическим к нему отношением, потому что я давно уже стоял тогда на социал-демократической точке зрения. В качестве социал-демократа я хорошо видел то, чего не замечал прежде в качестве народника, именно то, что агитация на экономической почве может и должна быть использована агитаторами для политического воспитания рабочей массы. Читатель видит, что предлагаемые воспоминания содержат в себе также и посильное разъяснение этой стороны вопроса.
Я указываю на все это потому, что некоторые «сочинители» выдвигают теперь против меня в частности, и против группы «Освобождение труда» 7 вообще, упрек в том, что мы будто бы не понимали значения агитации, а потому не могли своевременно указать на него нашим молодым товарищам. Если бы гг. «сочинители» лучше знали историю нашего движения, то они сами без труда поняли бы, как нелепо их «сочинение».
Правда, еще очень недалеко от нас то время, когда наш взгляд на агитацию находили неправильным многие наши молодые товарищи, настойчиво противопоставляющие ему взгляд, который был подробно изложен в известной брошюре «Об агитации». Я не стану разбирать здесь эту брошюру. Мое отношение к ней высказано еще очень недавно в статье «Еще раз социализм и
54
политическая борьба», напечатанной в первой книжке «Зари»8. Замечу одно: последовательные защитники взгляда, изложенного в брошюре «Об агитации», скоро стали, и неизбежно должны были стать, «экономистами», между тем как взгляд группы «Освобождение труда» разделяется теперь всеми мыслящими сторонниками «политического» направления. Оппозиция, которую некогда встречал этот взгляд в некоторой части наших социал-демократов, свидетельствовала лишь о том, что эти социал-демократы еще не вполне поняли не только ближайшую политическую задачу своей партии, но и вообще весь дух социал-демократической теории. И чем более и чем скорее сознавали они свои ошибки, тем более и тем скорее приближались они ко взглядам группы «Освобождение труда».
Упрек, выдвинутый против нас вышеупомянутыми «сочинителями», совсем не заслуживал бы внимания, если бы они не считали себя призванными исправить и наверстать то, что было будто бы упущено и будто бы испорчено нами и нашими ближайшими товарищами. Но именно под предлогом такого исправления и такого наверстания эти господа, которые крайне бедны собственными идеями, но зато чрезвычайно богаты непониманием чужих идей, проповедуют такой отчаянный вздор о «тактике-процессе» и об отношении экономической агитации к политической, что поистине заслуживают названия великих людей... по части путаницы понятий. Ну, а великих людей игнорировать невозможно; мы не имеем права обходить молчанием их упреки.
Но оставим пока гг. «сочинителей» и бросим взгляд на путь, пройденный русской социал-демократией с того времени, когда вышло первое издание моих воспоминаний. В то время наши товарищи только еще спрашивали себя, можно ли и следует ли им перейти от пропаганды к агитации; теперь агитация приняла такие широкие размеры, о каких они тогда боялись и мечтать. В то время наши товарищи уже приобрели прочное и плодотворное влияние в рабочих кружках; теперь рабочая масса, или — выражаясь скромнее, но зато точнее — передовые слои рабочей массы видят в них своих надежнейших руководителей и внимательно прислушиваются к их голосу. В то время наши товарищи только еще стремились занять господствующее положение в русской революционной среде; теперь это положение принадлежит им бесспорно, безраздельно и бесповоротно. И всего этого они достигли, несмотря на усердие полиции и на
55
иудины поцелуи «критиков». Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит. За нас, русских социал-демократов, ворожит бабушка-история, и ее ворожба быстро подвинула вперед наше дело.
Известно, однако, что noblesse oblige. У кого есть такая знатная бабушка, тот и сам должен непрестанно «содержать себя в струне» и помнить, что на нем лежат великие обязанности. До сих пор наше дело подвигалось вперед очень быстро, но поступательное его движение, наверное, сильно замедлится в будущем, если мы не сумеем разрешить тех практических задач, которые выросли перед нами именно благодаря нашим огромным успехам. Самой важной из этих задач является, без всякого сомнения, организация. Вопрос о ней имеет теперь такое же решающее значение, какое лет десять тому назад имел вопрос об агитации. Он лежит в центре всех остальных практических вопросов настоящего времени. Не разрешив его, мы ни для одного из них не найдем вполне удовлетворительного решения. А когда он будет разрешен, они решатся, можно сказать, сами собой. Тогда нами будет сделан новый, огромный шаг вперед, с которым начнется новая эпоха в истории нашей партии. Тогда даже наиболее упорные хулители русской социал-демократии вынуждены будут признать, что ей суждено собрать под свое знамя все живые силы революционной России. И тогда она будет иметь полное право сказать всякому искреннему революционеру, как говорил Иегова еврейскому народу: «Аз есмь Господь Бог твой, и да не будут бози инии разве мене!»
I
Первый рабочий-революционер, с которым столкнула меня судьба, был довольно известный когда-то в русской революционной среде Митрофанов, впоследствии умерший в тюрьме от чахотки 9. Я познакомился с ним у студентов медицинской академии братьев X. в конце 1875 года. Митрофанов был уже тогда «нелегальным» и жил у братьев X., скрываясь от полиции. Как и все студенты-революционеры того времени, я, конечно, был большим народолюбцем и собирался идти в «народ», понятие о котором было у меня, однако, — опять-таки как и у всех студентов-революционеров того времени,— очень смутным и неопределенным. Любя «народ», я знал его очень мало, а лучше сказать, не знал совсем, хотя и вырос в деревне. Когда я первый раз встретился с Митрофановым и узнал, что он рабочий, т. е. один из представителей «народа», в моей душе шевельнулось смешанное чувство жалости и какой-то неловкости, точно будто я в чем-нибудь перед ним провинился. Мне очень хотелось заговорить с ним, но в то же время я решительно не знал, как и в каких выражениях стану с ним разговаривать. Мне казалось, что язык нашего брата студента будет совершенно непонятен этому «сыну народа» и что в разговоре с ним я должен держаться того нелепого, переряженного слова, которым были написаны многие из наших революционных брошюр. К счастью, Митрофанов вывел меня из затруднения. Он заговорил первый, и, не помню уже как, разговор перешел на революционную литературу. Я увидел, что мой собеседник читал не одни только ряженые брошюры. Ему знакомы были сочинения Чернышевского, Бакунина, Лаврова, и он умел отнестись к ним критически. Журнал и газета «Вперед!» казались ему недостаточно революционными 10. Он склонялся к «бунтарству» и отстаивал этот способ действия с помощью тех же самых
67

Маевка участников «Рабочего союза» в лесу за Волковым кладбищем (картина художника М. Д. Янкова).
доводов, которые приводились обыкновенно «бунтаря-ми»-студентами 11. Удивлению моему не было границ. Личность Митрофанова решительно не входила в узкие рамки моего сентиментального представления о «народе». Зато тем более заинтересовала она меня. Я стал часто встречаться с Митрофановым и жадно расспрашивал его об его революционной деятельности в народной среде. Из всех слоев народа ближе всего ко мне, по моему тогдашнему положению, были, конечно, петербургские рабочие, и вот я засыпал своего нового знакомого вопросами о том, что представляют они собой. Митрофанов относился к ним отрицательно. Из его слов выходило, что настоящий народ это крестьянство, городские же рабочие в значительной степени развращены и проникнуты буржуазным духом, вследствие чего революционеры должны идти в деревню. Подобные отзывы, вполне соответствовавшие нашим собственным представлениям о народе, не могли возбудить во мне склонности к ближайшему знакомству с петербургской рабочей средой, и в течение нескольких месяцев Митрофанов оставался единственным лично известным мне рабочим. А между тем в то время велась в этой среде довольно де-
58
ятельная пропаганда, в которой и мне пришлось вскоре принять посильное участие.
В самом начале 1876 года случилось так, что не было подходящей квартиры для революционной рабочей сходки. У меня на Петербургской стороне была прекрасная, большая комната и очень добрая хозяйка-чухонка, решительно не понимавшая, что может быть предосудительного в многолюдных вечерних собраниях молодежи. Опасаться каких-либо доносов с ее стороны не было оснований. Напротив, «в случае чего», она первая постаралась бы предупредить и выручить из беды своего постояльца. Об этих доблестях моей хозяйки знали все мои знакомые революционеры, между которыми были люди, занимавшиеся пропагандой в среде рабочих. Разумеется, по доброму революционному обычаю, люди эти, до поры до времени, держали свои занятия в тайне от меня, непосвященного. Но так как у них не было причин не доверять мне, то они открылись тотчас, как только им представилась надобность,— если не лично во мне, то в моей комнате. На вопрос, может ли собраться у меня рабочая сходка, я отвечал полнейшим согласием и, несмотря на заимствованное от Митрофанова предубеждение против городских рабочих, с нетерпением ждал назначенного для сходки времени.
Дело было под какой-то большой праздник. Около 8 часов вечера ко мне пришло сначала человек 5—6 интеллигентных «революционеров» — некоторых из них я видел тогда в первый раз,— а затем стали собираться рабочие. Собрание было открыто, как это водилось и, вероятно, до сих пор водится в России, без всяких формальностей. Частные беседы, подойдя к предмету сходки, мало-помалу перешли в общий разговор, и каждый, желавший что-нибудь сказать, вставлял свое замечание, нимало не справляясь о том, кому в данную минуту «принадлежит слово». «Слово» принадлежало всем вообще и никому в частности. Благодаря этому, прения много теряли в смысле порядка, но, с другой стороны, немало выигрывали в смысле задушевности. Состоявшаяся у меня сходка имела важное значение. Как раз в то время вырабатывалась программа «бунтарей-народников. Большинство революционеров из интеллигенции думало, что главные силы русской социалистической партии должны быть направлены на «агитацию на почве существующих народных требований», а за «пропаганду» стояли так называемые «лавристы», люди малодеятельные и потому маловлиятельные в революционной
69
среде. В качестве бунтарей интеллигенты, собравшиеся у меня, старались склонить рабочих на путь «агитации», Рабочие вообще плохо схватывали отличительные признаки различных революционных программ; «интеллигенции» нужно было положить много труда, прежде чем тот или другой из них постигал, наконец, спорные программные вопросы, подобно Митрофанову, до тонкости. Но это я заметил уже впоследствии. Теперь же видел только, что на доводы бунтарей рабочие поддаются довольно туго. Нужно заметить, что у меня собрались лучшие, наиболее надежные и влиятельные люди из петербургских рабочих-революционеров. Многие из них уже подвергались преследованиям по делу о революционной пропаганде 73—74 годов (из которого вырос потом знаменитый процесс 193-х) 12 и, сидя в тюрьме, много учились и читали. По выходе на волю они опять горячо принялись за революционную деятельность, но смотрели на революционные рабочие кружки прежде всего как на кружки самообразования. Когда бунтари, излагая перед ними свои взгляды, выразили ту мысль, что «пропаганда» не имеет никакого революционного значения, рабочие горячо запротестовали.
— Как не стыдно вам говорить это? — с жаром воскликнул некто В. 13, работавший, если не ошибаюсь, на Василеостровском патронном заводе и только что оставивший Дом предварительного заключения, где он сидел по делу «чайковцев» 14. — Каждого из вас, интеллигентов, в пяти школах учили, в семи водах мыли, а ведь иной рабочий не знает, как отворяется дверь школы! Вам не нужно больше учиться: вы и так много знаете, а рабочим без этого нельзя!
— Не страшно пропасть за дело, когда понимаешь его, — говорил молодой, стройный рабочий В. Я. 15, — а когда пропадешь неизвестно за что, это уже плохо. Мало хорошего добьетесь вы от такого рабочего, который ничего не знает!
— Каждый рабочий — революционер по самому положению своему, — возражали бунтари, — разве он не видит, не понимает, что хозяин наживается на его счет?
— Понимает, да плохо; видит, да не так, как следует, — стояли на своем рабочие. — Другому кажется, что иначе и быть не может, что так уж богу угодно, чтобы терпел рабочий. А вы покажите ему, что может быть иначе. Тогда он станет настоящим революционером.
Спор затянулся надолго. В конце концов обе сторо-
69
ны пошли на уступки. Решено было не пренебрегать пропагандой, но в то же время не упускать удобных случаев для агитации. Я уверен, впрочем, что рабочим было очень неясно тогда, какой именно агитации добиваются от них бунтари. Да и у самих бунтарей с этим словом соединялось тогда, я думаю, несколько смутное представление.
Как бы там ни было, споры прекратились; сходка могла считаться оконченной. Бунтари ушли, ушли также некоторые из рабочих, но большинство продолжало сидеть, деятельно занимаясь чаепитием. Кто-то сбегал за пивом, произошла легкая выпивка, и разговор принял шутливый характер. В. рассказывал разные смешные случаи из своей тюремной жизни, а В. Я., тот самый В. Я., который говорил, что человек может с самоотвержением относиться только к понятному для него делу,— спел даже песню, сложенную, по его словам, колпинскими рабочими после каракозовского покушения. У меня осталось в памяти только начало этой песни: Каракозову спасибо, что хотел убить царя... 16
Веселая компания засиделась у меня далеко за полночь, и я расстался со своими гостями, как со старыми приятелями.
Впечатление, произведенное ими на меня, было потрясающее. Я совершенно забыл мрачные отзывы Митрофанова о петербургских рабочих. Я видел и помнил только то, что все эти люди, самым несомненным образом принадлежавшие к «народу», были сравнительно очень развитыми людьми, с которыми я мог говорить так же просто и, следовательно, так же искренно, как со своими знакомыми-студентами. Мало того, на тех из них, которые уже отсидели известное время в тюрьме, я смотрел снизу вверх: «я еще ничем не доказал своей преданности делу, а они успели постоять за него»,— говорил я себе и смотрел на них почти с благоговением, как смотрит, вероятно, всякий искренний и молодой, не бывавший в переделках, революционер на опытного, пострадавшего за дело товарища. Такое же впечатление вынес я из знакомства с нелегальным Митрофановым, но Митрофанова я считал исключением; теперь я узнал, что подобных ему исключений много. Дело сближения с народом, прежде пугавшее меня своими трудностями, Показалось мне теперь простым и легким. Не откладывая его в долгий ящик, я решил немедленно же и как Можно ближе сойтись с моими новыми знакомыми. Поддержать раз завязавшиеся сношения с ними было тем
61

| 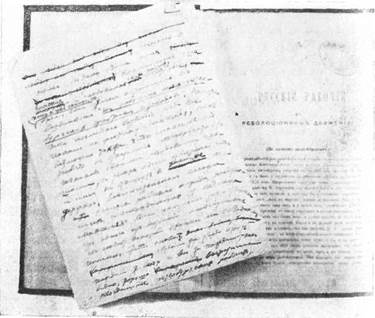
|
| Обложка журнала «Социал-демократ» (Женева, 1890).
| Текст статьи Г. В. Плеханова «Русский рабочий в революционном движении» в журнале «Социал-демократ» и автограф одной из страниц.
|
|
В. Плеханов в одежде рабочего. 1877—1879 гг.
| 
|
легче, что некоторые из них дали мне свои адреса и звали к себе в гости.
Прежде всего я пошел к некоему Г-у 17, жившему, как оказалось, по соседству со мной. Г. был оригинальный человек, едва ли имевший в своем характере хоть одну из тех черт, которые «интеллигенция» того времени любила приписывать «народу». В нем не было и следа крестьянской непосредственности, крестьянской склонности жить и думать так, как жили и думали предки. При самых обыкновенных способностях он отличался редкой жаждой знания и поистине удивительной энергией в деле его приобретения. Работая на заводе по 10—11 часов в сутки и возвращаясь домой только вечером, он ежедневно просиживал за книгами до часу ночи. Читал он медленно и, как я заметил, не легко усваивал прочитанное, но то, что усваивал, знал очень основательно. Маленький, слабогрудый и бледный, безбородый с небольшими, тонкими усиками, он носил длинные волосы и синие очки. В зимние холода он поверх короткого драпового пальто накидывал широкий плед и тогда уже окончательно выглядел студентом. Он и жил по-студенчески, занимая крошечную комнатку, единственный стол которой был завален книгами. Когда я короче познакомился с ним, я был поражен разнообразием и множеством осаждавших его теоретических вопросов. Чем только не интересовался этот человек, в детстве едва научившийся грамоте! Политическая экономия и химия, социальные вопросы и теория Дарвина одинаково привлекали к себе его внимание, возбуждали в нем одинаковый интерес, и, казалось, нужны были десятки лет, чтобы, при его положении, хоть немного утолить его умственный голод. Меня и обрадо-
63
вала и вместе как бы опечалила эта черта его характера. Почему обрадовала — это понятно без пояснений; опечалила же потому, что я был сильно проникнут тогда бунтарскими взглядами, а у бунтарей излишнее пристрастие к книге считалось недостатком, признаком холодного, нереволюционного темперамента. Впрочем, по темпераменту Г., действительно, не был революционером. Ou, наверное, всегда лучше чувствовал бы себя в библиотеке, чем на шумном политическом собрании. Но от товарищей он не отставал, а положиться на него можно было, как на каменную гору.
В сопровождении Г-а я посетил почти всех остальных рабочих, бывших на вышеописанной сходке в моей комнате, а затем приобрел между ними много новых знакомых. Видя, как заинтересовало меня «рабочее дело», бунтари приняли меня в свой кружок, так что «занятия с рабочими» стали с тех пор моей революционной обязанностью.
II
Само собой разумеется, что между рабочими, как повсюду, я встречал людей, очень различавшихся между собою по характеру, по способностям и даже по образованию. Одни, подобно Г-у, читали очень много, другие так себе, не много и не мало, а третьи предпочитали книжные «умные разговоры» за стаканом чаю или за бутылкой пива. Но в общем вся эта среда отличалась значительной умственной развитостью и высоким уровнем своих житейских потребностей. Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут нисколько не хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал 1 руб. 25 коп., до 2 рублей в день. Разумеется, и на этот сравнительно хороший заработок не легко было существовать семейным людям. Но холостые — а они составляли тогда между знакомыми мне рабочими большинство — могли расходовать вдвое больше небогатого студента. Были среди них и настоящие «богачи», вроде механика С. 18, ежедневный заработок которого доходил до трех рублей. С. жил на Васильевском острове вместе с В. (который, на сходке у меня, так горячо отстаивал пропаганду в рабочих кружках). Эти два друга занимали прекрасную меблированную комнату, покупали книги и любили иногда побаловать себя бутылкою хорошего вина. Одевались они, в особенности С., настоящими франтами. Впрочем, все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а
64
главное опрятнее, чище нашего брата студента. Каждый них имел для больших оказий хорошую черную пару и когда облекался в нее, то выглядел «барином» гораздо больше любого студента. Революционеры из «интеллигенции» часто и горько упрекали рабочих за «буржуазную» склонность к франтовству, но не могли ни искоренить, пи даже хотя бы отчасти ослабить эту будто бы вредную склонность. Привычка и здесь оказалась второй натурой. В действительности рабочие заботились о своей наружности не больше, чем «интеллигенты» о своей, но только заботливость их выражалась иначе. «Интеллигент» любил принарядиться по-«демократически», в красную рубаху или в засаленную блузу, а рабочий, которому надоела засаленная блуза, надоела и намозолила глаза в мастерской, любил, придя домой, одеться в чистое, как нам казалось, — буржуазное платье. Своим, часто преувеличенно небрежным, костюмом интеллигент протестовал против светской хлыщеватости; рабочий же, заботясь о чистоте и нарядности своей одежды, протестовал против тех общественных условий, благодаря которым он слишком часто видит себя вынужденным одеваться в грязные лохмотья. Теперь, вероятно, всякий согласится, что этот второй протест много серьезнее первого. Но в то время дело представлялось нам иначе: пропитанные духом аскетического социализма, мы готовы были проповедовать рабочим то самое «отсутствие потребностей», в котором Лассаль видел одно из главных препятствий для успеха рабочего движения.
Чем больше знакомился я с петербургскими рабочими, тем больше поражался их культурностью. Бойкие и речистые, умеющие постоять за себя и критически отнестись к окружающему, они были горожанами в лучшем смысле этого слова. Многие из нас держались тогда такого мнения, что «спропагандированные» городские рабочие должны идти в деревню, чтобы действовать там в духе той или иной революционной программы. Мнение это разделялось и некоторыми рабочими. Я уже сказал, как исключительно стоял Митрофанов за деятельность в деревне. Такой взгляд был непосредственным и неизбежным плодом нарождающегося тогда народничества, с его презрением к городской цивилизации, с его идеализацией крестьянского быта. Господствовавшие в среде революционной интеллигенции народнические идеи естественно налагали свою печать также и на взгляды рабочих. Но привычек их они переделать не могли, и потому настоящие городские рабочие, т. е. рабочие, совершенно
65
свыкшиеся с условиями городской жизни, в большинства случаев оказывались непригодными для деревни. Сойтись с крестьянами им было еще труднее, чем революционерам-«интеллигентам». Горожанин, если только он не «кающийся дворянин» и не совсем проникся влиянием дворян этого разряда, всегда смотрит сверху вниз на деревенского человека. Именно так смотрели на этого человека петербургские рабочие. Они называли его серым и в душе всегда несколько презирали его, хотя совершенно искренно сочувствовали его бедствиям. В этом отношении Митрофанов, с его нелюбовью к городу, представлял собой несомненное исключение из общею правила. Но Митрофанов, по своей нелегальности, долго жил среди «интеллигенции» и совершенно проникся всеми ее чувствами.
Нужно сказать и то, что между петербургскими рабочими «серый» деревенский человек нередко являл собой довольно жалкую фигуру. На Василеостровский патронный завод поступил, в качестве смазчика, крестьянин Смоленской губернии С. На этом заводе у рабочих было свое потребительное товарищество и своя столовая, служившая в то же время и читальней, так как она была снабжена почти всеми столичными газетами. Дело было в разгаре герцеговинского восстания 19. Новый смазчик отправился есть в общую столовую, где за обедом газеты читались, по обыкновению, вслух. В тот день, не знаю уж в какой газете, шла речь об одном из «славных защитников Герцеговины». Деревенский человек вмешался в поднявшиеся по этому поводу разговоры и высказал неожиданное предположение о том, что «оп, должно быть, любовник ейный».
— Кто? чей? — спросили удивленные собеседники.
— Да герцогинин-то защитник; с чего же бы стал он защищать ее, кабы промеж них ничего не было.
Присутствующие разразились громким хохотом. «Так, по-твоему, Герцеговина не страна, а баба, — восклицали они,— ничего-то ты не понимаешь, прямая деревенщи-на!» С тех пор за ним надолго установилось прозвище — серый. Это прозвище очень удивило меня, когда я познакомился с ним глубокой осенью в 1876 году, когда он был уже убежденным революционером и самым деятельным пропагандистом.
— Почему вы так называете его? — спросил я рабочих.
— Да как же, ведь он какую штуку отмочил у нас в столовой; ведь он думал...
66
Последовал рассказ о герцогинином любовнике.
— Да что ж, ну, ошибся, — добродушно оправдывался смазчик, — ведь я что же понимал тогда?
Подобные происшествия подавали повод лишь к насмешке. Но между «серыми» людьми деревни и петербургскими рабочими происходили иногда недоразумения гораздо более печального свойства. По делу о пропаганде в 37 губерниях попал в тюрьму рабочий Б-н 20, родом из Новгородской или Петербургской губернии. Выпущенный после почти двухлетнего заключения, Б-н отправился на родину, если не ошибаюсь, для перемены паспорта. Тотчас по его приходе он был засажен в «холодную», а затем «старички» решили «постегать малого» за недоимки. Ему сообщили об этом решении, как о чем-то весьма обыкновенном и совершенно неизбежном.
— Да вы с ума сошли, — возопил Б-н, — да попробуйте только тронуть меня, я и деревню-то всю сожгу, да в вы-то голов не сносите: сам пропаду, да уж и вы пожалеете, что связались со мной!
«Старички» струсили. Они решили, что совсем ошалел их «острожник» и что лучше, в самом деле, с ним «не путаться». Так и ушел Б-н из родной деревни, не вкусив благодеятельных лозанов. Но он уже никогда не мог забыть этого происшествия.
— Нет, — говорил он нам, — я по-прежнему готов заниматься пропагандой между рабочими, но в деревню я никогда и ни за что не пойду. Незачем. Крестьяне — бараны, они никогда не поймут революционеров.
Я не раз замечал, что на телесное наказание рабочие смотрят как на крайнюю степень унижения человеческого достоинства. Иногда они с негодованием показывали мне газетные сообщения о порках крестьян, и я всегда затруднялся решить, что больше возмущает их: свирепость истязующих или безответная покорность истязуемых.
Когда сложившееся в 1876 году общество «Земля и воля» стало заводить свои революционные поселения в народе, нам удалось склонить к переезду в Саратовскую губернию некоторых петербургских рабочих. Это были испытанные люди, искренно преданные народническим идеалам и глубоко проникнутые народническими взглядами. Но попытки их устроиться в деревне не привели ни к чему. Побродив по деревням с целью высмотреть подходящее место для своего поселения (причем некоторые из них были приняты за немцев), они махнули Рукой на это дело и кончили тем, что вернулись в Сара-
67
тов, где завели сношения с местными рабочими. Как ни удивляла нас эта отчужденность от «народа» его городских детей, но факт был налицо, и мы должны были оставить мысль о привлечении рабочих к собственно крестьянскому делу.
Прошу читателя иметь в виду, что я говорю здесь о так называемых заводских рабочих, составлявших значительную часть петербургского рабочего населения и сильно отличавшихся от фабричных, как по своему сравнительно сносному экономическому положению, так и по своим привычкам. Фабричный работал больше заводского (12—14 часов в сутки), а зарабатывал значительно меньше: рублей 20—25 в месяц. Он носил ситцевую рубаху и долгополую поддевку, над которыми подсмеивались заводские. Он не имел возможности нанимать отдельную квартиру или комнату, а жил в общем артельном помещении. У него были более прочные связи с деревней, чем у заводского рабочего. Он знал и читал гораздо меньше, чем заводской, и вообще был ближе к крестьянину. Заводской рабочий представлял собой что-то среднее между «интеллигентом» и фабричным: фабричный — что-то среднее между крестьянином и заводским рабочим. К кому он ближе по своим понятиям, к крестьянину или заводскому, — это зависело от того, как долго прожил он в городе. Только что пришедший из деревни фабричный, разумеется, оставался в течение некоторого времени настоящим крестьянином. Он и жаловался не на хозяйскую прижимку, а на тяжелые под





 * Этот взгляд на рабочих, как на класс, способный играм, лишь роль вспомогательного отряда революционной армии, целиком перешел от народников к народовольцам (см. напечатанную в «Календаре Народной воли» записку «Подготовительная работа партии», руб. Б., городские рабочие) Оно и понятно. Народовольцы недаром говорили о себе что по основным своим в o ззрениям они — социалисты- народники.
* Этот взгляд на рабочих, как на класс, способный играм, лишь роль вспомогательного отряда революционной армии, целиком перешел от народников к народовольцам (см. напечатанную в «Календаре Народной воли» записку «Подготовительная работа партии», руб. Б., городские рабочие) Оно и понятно. Народовольцы недаром говорили о себе что по основным своим в o ззрениям они — социалисты- народники.