Московский Набег Наполеона .
глазами московских школьников
(современный роман)
«И четырех справедливых страниц не сыщется во всем том, что понапечатано за последние четыре года о моем царствовании и о деяниях моих современников. Среди сочинителей немало пасквилянтов, но нет ни одного Фукидида».
Наполеон на о. св. Елены
Предисловие к русскому изданию
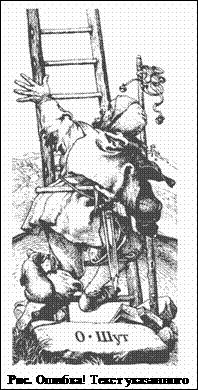 Автор, будучи по национальности греком—а, согласно русской поговорке, «греки и поныне лукави есть»—приветствует издание своего труда в переводе на современный русский язык или сандхьябхашу (к сожалению, на исторической Родине писателя,—древней Элладе, на древнегреческом языке, т.е. родном диалекте писателя —труд автора по цензурным соображениям пока не вышел) . Этот досадный казус (отказ древнегреческих издательств публиковать труд писателя на его исторической Родине) связан с тем, что названный труд не следует идеям Просвещения и тем самым выпадает из потемкинского «греческого проекта», из-за чего Ареопаг отклонил смиренное прошение автора вывесить свой труд на Акрополе в полном объеме. Поэтому приходится довольствоваться малым и приветствовать издание своего труда в «неумытой России», крайне далекой от Просвещения и до сих пор остающейся островком Варварства среди Просвещенных Конфедераций (т.е. Соединенных Штатов) Европы и Америки.
Автор, будучи по национальности греком—а, согласно русской поговорке, «греки и поныне лукави есть»—приветствует издание своего труда в переводе на современный русский язык или сандхьябхашу (к сожалению, на исторической Родине писателя,—древней Элладе, на древнегреческом языке, т.е. родном диалекте писателя —труд автора по цензурным соображениям пока не вышел) . Этот досадный казус (отказ древнегреческих издательств публиковать труд писателя на его исторической Родине) связан с тем, что названный труд не следует идеям Просвещения и тем самым выпадает из потемкинского «греческого проекта», из-за чего Ареопаг отклонил смиренное прошение автора вывесить свой труд на Акрополе в полном объеме. Поэтому приходится довольствоваться малым и приветствовать издание своего труда в «неумытой России», крайне далекой от Просвещения и до сих пор остающейся островком Варварства среди Просвещенных Конфедераций (т.е. Соединенных Штатов) Европы и Америки.
Благодарности
И, наконец, последний штрих в соответствии с законом жанра —благодарности. Я благодарен моим родителям за все, что они дали мне. Я благодарен моим учителям, воспитавшим во мне все лучшее (худшее пришло ко мне само) и привившим любовь к отечественной (Земля—мое Отечество) истории и культуре. Благодарен Господам Новохронологам (Морозову, Постникову, Фоменко-Носовскому, более известным среди историков как АТФ-ГВН) и «Проекту Цивилизация», перевернувшим все мои представления о мире. Особую благодарность я испытываю к Сергею Кимовичу Стафееву, пожалуй, единственному из коллег, с кем мы лишь обменивались мнениями при полном совпадении взглядов.
Огласить весь список моих благодарностей мне крайне сложно в силу его невероятной многочисленности, потому что все, кто не только помогал мне в написании романа, но и критиковал, ругал, поносил и даже не оставлял камня на камне—всем им я чрезвычайно благодарен за свежий и нетрадиционный подход к также свежей и нетрадиционной теме романа. Сюда вошли даже такие имена, как Николь Фламмель, Кретьен де Труа, Вольфрам фон Эшенбах и др.
И все же не могу не выразить особой благодарности тем, кто, исполняя свой долг, бескорыстно и добросовестно помогали мне проводить мои исследования в книжных и архивных древлехранилищах, частных собраниях, антикварных лавках и прочих пыльных учреждениях, выискивая и подсказывая мне неожиданные повороты для моего романа. Кто они, безвестные скромные братья, ведающие и молчащие в величии своего служения? Им я признателен в высшей степени.
Не могу не упомянуть и своего спонсора, чьими деньгами был частично оплачен первый тираж первого выпуска романа. Его глубокие мысли также сильно повлияли на меня и продвинули мой проект.
Версия вторая (сказочная)
—А с чего ты взял, что он родился 10 февраля?
—Из правдивой сказки о Наполеоне «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». Смотрите, что пишет об этом Гофман:
«В день святого Лаврентия мальчишке минуло уже три с половиной года, а он—ведь ножки-то у него паучьи —не умеет ни стоять, ни ходить, да к тому же не говорит, как человек, а мурлычет и мяучит, как кошка. Зато жрет этот несчастный ублюдок не меньше восьмилетнего крепыша, хотя впрок ему ничто не идет. Не дай нам Бог растить и кормить его, себе же только мука и разоренье. Ведь есть и пить этот недомерок будет все больше и больше, а за работу никогда в жизни не примется! Нет, нет, это выше сил человеческих!.. Ах, умереть бы мне... только бы умереть!»
Так причитала его мать Летиция в первой главе сказки, где читатель впервые знакомится с маленьким уродцем Цахесом. Смотрите: «в день святого Лаврентия мальчишке минуло уже три с половиной года». День св. Лаврентия католиками справляется 10 августа, а Успения Богородицы—15 августа. Однако 10 августа мальчишке минуло 3,5 года —это означает, что он родился ровно на полгода раньше, т.е. 10 февраля:
«15 августа 1769 года—в год поражения корсиканцев—в городе Аяччо… родился Наполеон Бонапарт. Впоследствии, а именно в 1814 году, когда Наполеон уже не был нужен Франции, дата его рождения даже оспаривалась Сенатом, ведь ее перенос всего на полгода назад делал императора иностранцем-узурпатором…».
Вот так. Это значит, в 1814 году Сенат, на основании ПОДЛИННЫХ документов о точной дате рождения Ерундобера, назвал его иностранцем-узурпатором, а сказочник Гофман постарался отразить это в своей сказке тонким полунамеком. Какое же событие произошло между этими двумя датами рождения Наполеона?
8 мая 1769 года в битве при Понте-Нуово корсиканцы потерпели сокрушительное поражение от французов. А английский агент и корсиканский патриот Паскуале Паоли бежал к своим покровителям в Англию.
Итак, если датой рождения Ерундобера считать 10 февраля, на что откровенно намекает Гофман, тогда он —чистопородный итальянец, всю жизнь поддерживавший связь со своей исторической родиной (и именовавший себя ВСЕГДА не иначе, как Император французов и Король итальянский). Если же, как это делают все официальные биографы величайшего полководца, перенести эту дату всего на полгода, когда остров временно был оккупирован французами, то это дает им право называть его французом и, соответственно, делать его как бы законным императором французов. Гораций Верне в своей «Жизни Наполеона» даже описывает событие рождения Наполеона в возвышенно-героических тонах:
«Наполеон Бонапарт родился в Аяччо, на острове Корсика, 15 августа 1769; он был сын Карла Бонапарта и Летиции Рамолино. Если бы в наше время еще верили чудесным предзнаменованиям, то нетрудно бы найти такие из них, которые можно назвать предвестниками этого события. Лас-Каз рассказывает, что мать Наполео-на, женщина мужественная и бодрая духом, которая, будучи им беременна, принимала участие в нескольких сражениях, пошла по случаю праздника Успения к обедне, но вынуждена была поспешно возвратиться домой, и, не успев дойти до спальни, разрешилась от бремени в одной из комнат, устланной древними коврами с изображением героев Илиады: рожденное дитя был Наполеон».
Окруженный древними коврами с изображением героев Илиады Наполеон родился официально во время обедни праздника Успения, но остался без ответа вопрос—а против кого же воевала беременная Наполеоном мадам Бонапарт? Уж не против ли своих будущих соотечественников? По крайней мере сам Наполеон совершенно откровенно пишет о той борьбе англичан и корсиканцев против французского ига, в которой принимала участие его героическая мать:
«Я родился, когда 30.000 французов, ринувшись на берега моей родины, залили престол свободы потоками крови... Крики умирающих, стоны и жалобы обиженных, слезы отчаяния окружали мою колыбель... Я родился, когда умерло мое Отечество!»...
Этими краткими и сильными словами в письме к корсиканскому национальному герою и английскому агенту Паоли, написанном в июне 1789 года, Наполеон определяет исторический момент своего появления на свет. И Ерундобер поклялся затопить потоками крови всю Францию. Но вначале он попытался сделать то же самое со своим умершим Отечеством—во главе французской карательной экспедиции в 1794 г. он потерпел сокрушительное поражение от корсиканцев-патриотов.
Родословная Ерундобера
Вот, например, как описывает «древнюю» дворянскую родословную Чичикова Гоголь:
«Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные —бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца».
А вот описание того же предмета у Верне:
«Во время консульства Наполеона и перед самым восстановлением во Франции монархического правления некоторые писатели, основываясь на неоспоримом дворянском происхождении фамилии Бонапарта, вздумали было сочинить для будущего императора княжескую родословную и отыскать ему предков между древними государями Севера. Но воин, который чувствовал, что в нем одном заключаются все судьбы французской революции, и помнил, что при владычестве совершенного равенства одними личными заслугами дошел от низших воинских чинов до верховной власти, объявил, что дворянское достоинство его основано на одних заслугах, оказанных им отечеству, и что благородство его начинается с Монтенотской битвы».
Не правда ли, сходство налицо, только в одном случае безродству Наполеона придается героическо- патетический характер, а в другом —иронично- уничижительный? Аналогичным образом описывается у Гоголя беспросветно бедное детство Наполеона, и определение его в казенное учебное заведение, и трогательное расставание и наставление отца, после чего они больше не встречались из-за ранней смерти родителя.
Ложное сватовство
 Но наиболее интересно сопоставление описания первого сватовства Наполеона у тех же двух авторов. На этот раз лучше начать с Верне:
Но наиболее интересно сопоставление описания первого сватовства Наполеона у тех же двух авторов. На этот раз лучше начать с Верне:
«Будучи отправлен в Валанс, где на то время была расположена часть его полка, Наполеон вошел в круг лучшего тамошнего общества; особенно хорошо был он принят в доме госпожи Коломбие, женщины высоких достоинств, которая была, так сказать, законодательницею валанского высшего круга. Здесь познакомился он с господином Монталиве, которого впоследствии сделал своим министром внутренних дел. У госпожи Коломбие была дочь; она-то внушила Наполеону первые чувства любви и сама разделяла эту нежную и невинную склонность, предметом которой была. Влюбленные назначали себе свидания, но,—по словам Наполеона,—все их блаженство ограничивалось тем, что они вместе лакомились вишнями.
О браке не было и речи. Мать девицы Коломбие, сколько, впрочем, ни уважала и ни любила молодого подпоручика, а вовсе не помышляла выдавать за него дочь, как после многие утверждали. Зато она в разговорах часто предсказывала ему его высокое назначение, что повторила даже в свою предсмертную минуту; она умерла при самом начале французской революции, и пророчество ее не замедлило сбыться. Однако же ни любовь, ни знакомства не мешали Наполеону продолжать своих ученых занятий и предаваться исследованию самых трудных задач по части общественного устройства».
А вот как то же событие описано у Гоголя:
«Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку —и дело возымело успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался как с невестой, повытчика звал папенькой, целовал его в руку; все положили в палате, что в конце февраля перед великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его со старым повытчиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!»
 Увлекательное, знаете ли, милостивые государи, я вам скажу, занятие—перечитывание историй великих сказочников в компании с Верне и другими Фукидидами —официальными биографами Наполеона! Столько открывается новых подробностей из жизни великого авантюриста (Булгаков в своей неоконченной повести «Похождения Чичикова», правда, назвал Чичикова мошенником—но да дело-то не в том, как назвать), столько захватывающих сюжетов, могущих составить славу и величие любому начинающему писателю—но Гоголь, со свойственной ему скромностию, поместил почему-то сии великолепные образчики живости и изворотливости ума своего главного героя Чичикова в самый конец своего повествования. И все же мы в состоянии произвести с жизнеописанием Чичикова все необходимые подмены и подстановки и раскрыть иносказания, и, наконец, увидеть то, что занимало сказочников и литераторов и весь XIX век: КАК безродный, ничем особенно не выделявшийся уродец сумел так перевернуть историю Европы, что составил в этой истории целую эпоху и затмил своей славой величайших героев Древности—Александра Македонского, Ганнибала и др.?
Увлекательное, знаете ли, милостивые государи, я вам скажу, занятие—перечитывание историй великих сказочников в компании с Верне и другими Фукидидами —официальными биографами Наполеона! Столько открывается новых подробностей из жизни великого авантюриста (Булгаков в своей неоконченной повести «Похождения Чичикова», правда, назвал Чичикова мошенником—но да дело-то не в том, как назвать), столько захватывающих сюжетов, могущих составить славу и величие любому начинающему писателю—но Гоголь, со свойственной ему скромностию, поместил почему-то сии великолепные образчики живости и изворотливости ума своего главного героя Чичикова в самый конец своего повествования. И все же мы в состоянии произвести с жизнеописанием Чичикова все необходимые подмены и подстановки и раскрыть иносказания, и, наконец, увидеть то, что занимало сказочников и литераторов и весь XIX век: КАК безродный, ничем особенно не выделявшийся уродец сумел так перевернуть историю Европы, что составил в этой истории целую эпоху и затмил своей славой величайших героев Древности—Александра Македонского, Ганнибала и др.?
И вот царственный и Первоверховный Закон Аналогии вступает в силу в странном и причудливом мире Ерундобера. С одной стороны—орлиный взор, могучий торс и гордо поднятая голова… на памятниках уродцу, с другой—сам протитип, жалкий уродец, с трудом влачащий свое несуразное тело на паучьих ножках. Кому верить? А, между тем, речь идет об одном и том же предмете, и где здесь тогда Закон Аналогии, где Закон Соответствия?
Даже трогательно-возвышенное описание расставания навеки отца с сыном с произнесением обязательного отцовского наставления, которое в устах других писателей звучит как религиозный завет, у Гоголя крайне приземленно:
«При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете Копейкой».
И этот образ—не преувеличение, к которым был так склонен ранний Гоголь! Он прямо списан с реальных поступков и высказываний Чичикова—простите, Наполеона,—например, таких:
«XXII. Заурядный человек домогается общества вельмож не ради них самих, но ради их власти, а те принимают его из тщеславия или по мере надобности» …
«XXXIX. Самое верное средство остаться бедным—быть честным человеком»…
«CLXV. Самое важное в политике—следовать своей цели: средства ничего не значат»…
«CCCLXXXV. То, что называется естественным законом—всего лишь закон выгоды и разума».
Но сии образчики рассуждений Великого Чичикова-Ерундобера были подробно исследованы следующим за Гоголем писателем—Достоевским, посвятившим Наполеону роман «Преступление и Наказание». Раскольников-Наполеон очень много рассуждает на темы морали, толпы, права на Преступление и т.д., продолжая и развивая темы узника св.Елены, своего прототипа. Действиительно, а почему убийство одной никому ненужной старухи-процентщицы считается преступлением, в то время как намеренное убийство миллионов здоровых полноценных талантливых людей—наоборот, возвеличивается и преподносится как геройство?
Английская версия—50 тысяч
Но даже эта цифра (325 900) общего числа вторгшихся в Россию солдат Великой Армии неожиданно начинает осмысливаться по-иному при сопоставлении ее с другой, приведенной Делдерфилдом чуть ниже:
«Может быть, самый лучший способ прийти к окончательному выводу относительно потерь—это разделить войска Наполеона на три части: дезертиры, фланговое охранение и московский контингент. Дезертиры, исключительно пруссаки и австрийцы, практически не несли потерь, уменьшив наступательные силы на 275 тысяч человек, не беря в расчет сопровождавших армию. Общие силы флангового охранения Удино и Виктора в тот момент, когда они присоединились к главным силам у Борисова, насчитывали около 25 тысяч человек» (Там же, с.348).
Простой арифметической подсчет показывает, что, по версии Марбо-Делдерфилда, «верные» Наполеону части вряд ли превышали 50 тыс. человек (325-275=50). Бок о бок с ней с коренным населением Московии сражалась союзная ей и многократно превосходящая так наз. русская армия, наиболее боеспособная армия в Европе.
Вовкина версия
Между тем, не оспаривая численность Великой Армии (500-600 тысяч солдат), моя,—тут Вовка сделал ударение на слове «моя» и весьма многозначительную паузу,—точка зрения заключается в том, что ее состав был приблизительно следующим: 20 тысяч пруссаков, 30 тысяч австрияков, 50 тысяч так называемых французов (голландцев, итальянцев, хорватов и прочих немцев) и, наконец, 400 тысяч русских! Были еще всякие польские волонтеры, вестфальцы Жерома, и другие, формально увеличивавшие Великую Армию до 600 тысяч, но на самом деле несуществующие части.
Березинское сражение
И все же невозможно пройти мимо самого страшного описания действительно грандиозной баталии, в которой, как и всегда, Наполеон одержал величайшую победу, обозначенную на Триумфальной Арке на Площади Согласия (пляс Конкорд) или Звезды (л`Этуаль) в Париже—у Березины. Все официальные военные историки захлебываются в истерическом восхвалении военного гения Наполеона при анализе этого сражения:
«И сам Наполеон, и его маршалы, и многие военные историки, как прежние, так и новые, считали и считают, что как военный случай березинская переправа представляет собой замечательное наполеоновское достижение… В 1894 г. появилось специальное исследование русского военного историка Харкевича «Березина», считающееся и теперь образцовым… Так же как и Апухтин, Харкевич считает, что страх, панический страх перед Наполеоном так сдавил и парализовал Витгенштейна и Чичагова, что они не сделали того, что должны были со своей стороны сделать. Действия же Наполеона Харкевич считает вполне целесообразными».
После этой победы Наполеон хвастался, что наголову разбил Витгенштейна и взял в плен 6 тысяч русских! Тем самым он снискал себе неувядаемую славу величайшего военного гения всех времен и народов, а его описание сражения вошло во все учебники по военному искусству. К сожалению, некоторые несознательные элементы и всякие хулиганы и сказочники почему-то до сих пор продолжают подвергать сомнению официальную точку зрения и приводят несколько иные факты, которые мы и передадим читателю:
«Марбо, бывший со вчерашнего дня на левом берегу, также сообщал о необычной апатии, которая господствовала среди тысяч отставших, все еще стоявших лагерем на правом берегу, и настолько овладела ими, что, можно сказать, будь они чуть проворнее, возможно, удалось бы предотвратить ту ужасную трагедию, которая последовала позднее. Потеряв лошадь, которую запрягали в обоз с полковой казной и конторскими книгами, ночью 27 ноября Марбо поскакал обратно к мосту и был поражен, обнаружив, что оба моста совершенно пустые, левый берег Березины пестрит кострами и биваками, никто не использует прекрасную возможность переправиться на другой берег. Впервые он увидел остатки Московской армии и, как и все солдаты из откомандированных подразделений, пришел в ужас от их внешнего вида и отсутствия дисциплины.
Поняв, что еще чуть-чуть и начнется массовое бегство этой толпы к мостам и она окажется мишенью для артиллерии Витгенштейна, Марбо собрал несколько сотен уцелевших и, действуя частично убеждением, частично силой, сумел успешно переправить на правый берег от 2 до 3 тысяч человек. Он оценивал толпу солдат, отбившихся от своих полков, приблизительно в 50 тысяч, но эта цифра, даже если и была близка к действительности, не включала в себя огромного количества гражданских и, возможно, бывших там русских пленных, о которых никто больше не беспокоился.
Ниже по течению, у Борисова, Виктор прекратил свои продолжительные бои с Витгенштейном и готовился идти к переправе. В это время под его командованием находилось 8 тысяч человек, но он оставил 2 тысячи пехотинцев, 300 кавалеристов и три пушки под командованием генерала Партоно, который должен был прикрывать его отступление.
Поздно вечером, 28 ноября, Виктор столкнулся с толпой, все еще стоявшей лагерем на его стороне реки, но, имея в тылу Партоно, решил, что для особой спешки причин нет. Он также узнал, что император переправился на другой берег прошлой ночью, а Ней все еще справляется с отчаянным натиском Чичагова у деревни Завинской, расположенной за бродом на правом берегу реки.
Тем не менее, именно в этот момент нелепая оплошность лишила французов их арьергарда. Поднимаясь вверх по течению из Борисова, генерал Партоно совершил фатальную ошибку, дойдя до развилки и повернув направо, а не налево вдоль берега. Почему он так сделал, остается загадкой. Партоно—опытный офицер, несущий большую ответственность,—должен был следовать той же дорогой, по которой прошли несколько солдат легкой пехоты, тогда бы река не оказалась по правую сторону от него. Но он вместе с большей частью своих 2 тысяч пошел прямо на авангард армии Витгенштейна, который немедленно заглотил столь лакомый кусок. Партоно доблестно сражался, отчего его дивизия уменьшилась до нескольких сотен человек, пока ей не пришлось сложить оружие. Только последний батальон под командованием более бдительного офицера на развилке повернул налево и присоединился к Виктору, находившемуся напротив Студенки.
Теперь отступление достигло своей наиболее ужасной стадии. Как только ядра орудий Витгенштейна стали падать на головы огромной толпы разрозненных солдат и нестроевых, уже два дня стоявших лагерем на левом берегу, началось дикое бегство к мостам. Виктор прибыл на берег около 9 часов вечера, но паника началась где-то за час до этого, и неразбериха на подступах к мостам, когда туда подошли первые части Девятого корпуса, не поддавалась описанию. Солдаты, женщины с детьми, возницы, все еще на своих повозках, и маркитанты, ухитрившиеся сохранить свои телеги до самой переправы или найти им замену, согласованно пытались добраться до одного из двух насыпных мостов, дававших им шанс уйти от наступавших русских. В половине девятого мосты были переполнены беглецами и начали рушиться под их весом, а подступы к мостам наполнились хаосом из сцепившихся повозок и рвущихся вперед животных, при этом каждый возница, пытаясь пробиться в общей давке, выкрикивал угрозы и изрыгал проклятья на пределе возможностей своего голоса.
Свидетель пишет, что эта сцена напомнила ему описание Дантова «Ада», а когда русские пушки начали бить по мосту и подступам к нему, поток людей и повозок превратился в сплошное месиво. Повозка за повозкой скатывалась или соскальзывала на мелководье, а на самих мостах груды трупов образовали барьеры, сквозь которые самые активные из отступавших пробивали себе дорогу в безопасное место. Когда тяжелый мост рухнул от непомерного напряжения, на его остатках началась бешеная борьба за спасение, и даже те, кому удалось переправиться на другой берег, оказались безнадежно вовлеченными в другую стычку, потому что правый берег (крутой и скользкий) не был разрушен так сильно, как левый. Многие возницы, поняв, что переправиться вместе с повозками напрямую невозможно, съехали в воду, но только немногие из них достигли противоположного берега…
Паника на единственном уцелевшем мосту еще больше усилилась, когда Девятый корпус Виктора, маршировавший в боевом порядке, прорубил себе дорогу сквозь толпу, чтобы присоединиться к главным силам. Двое из старших офицеров не потеряли голову во время этой ужасной переправы. Один из них—маршал Лефевр, который стоял на берегу и пытался, пока толпа беглецов не смела его и он не попал на другой берег, контролировать ситуацию, чтобы не допустить паники. Другой, не менее почтенный офицер,—генерал Эбли, руководивший строительством мостов. Эти два человека могут претендовать на часть лавров, которые после зимы 1812 года увенчали Нея, принца Евгения и Удино. Эбли оставался на левом берегу, когда с первыми лучами солнца увидел размеры этой чудовищной трагедии. Русские к этому времени были на расстоянии мушкетного выстрела от отступавших, поэтому генерал отдал приказ поджечь мост и все оставшиеся обозы. Несколько тысяч беглецов предпочли плен переправе и были схвачены в тот же день.
Весь масштаб этого ужасного и по большей части совершенно ненужного стихийного бегства стал известен весной следующего года, когда лед Березины растаял и вокруг Студенки обнаружили 32 тысячи трупов, которые сожгли на берегу. Среди погибших, наверное, три пятых были гражданскими, среди них большое количество женщин и детей».
Толпы измученных, оборванных и голодных путешественников вперемешку с «бандой инвалидов» под командованием самого Ерундобера смогли наголову разбить армию Витгенштейна! Тут, конечно, главным злодеем, как всегда, выступил Дед Мороз, отчего Ерундобер, как считается в официальных учебниках, потерял последние остатки своей Великой Армии и сиганул в Сморгонь, откуда в условиях глубокой конспирации и переодетый австрийским офицером, чтобы не быть узнанным и растерзанным по дороге через немецкие земли, где его открыто ненавидели и объявили охоту на него, отправился прямо в Париж к себе во дворец Тюлирьи.
—Постойте, а шесть тысяч пленных?!—искренне недоумевает почитатель военного гения Наполеона.
—Мне некогда было следить за ними!—надменно мяучит мерзкий уродец.
И действительно, величайшему военному гению Ерундоберу было недосуг следить за русскими—он был занят делами государственной важности! Ожидая коленопреклоненного племянника в Москве, он коротал время в составлении артикулов для Комеди Франсэз—занятие, достойное истинного полководца…
Глава 17. Ноябрь 1812: «Все еще продолжают бить русских…» Официальная историография о двух армиях
—Понимаешь, что меня бесит страшно—почему в войне 1812 года все русские выведены какими-то уродами! Куда же тогда подевались суворовские чудо-богатыри? Почему они все вдруг стали трусами и предателями?—Васька Петечкин достал листы распечатанных с Интернета (сайт «1812 год») документов и горячо тыкал в них пальцем.
—Ну да. Ты только посмотри, что пишет французский генерал Пеле:
«Две первые армии в мире готовились оспаривать скипетр Европы. С одной стороны были двадцать лет триумфов, искусство и привычка к войне, превосходная организация, храбрость блестящая и просвещенная, доверие, основанное на постоянных победах, пылкость, которую одна смерть могла остановить.
С другой стороны—желание восстановить старинную известность и заставить забыть многочисленные неудачи, преданность слепая и храбрость бездейственная, страдательное повиновение, выработанное железною дисциплиною, наконец, решимость умереть скорее, чем уступить»…
—Видал, каков гусь! Французы—сплошные триумфаторы, русские—тупые лузеры-неудачники!
—Погоди, не перебивай! Дальше еще интересней: «Увлеченная любовью к славе столь далеко от Отечества, которое она желает прославить, Французская армия спокойна, полагаясь на одного человека.
Армия древних Скифов защищает землю, на которой она родилась, и свои храмы, единственный очаг, который рабство позволяет ей знать.
В наших рядах каждый принимает участие в делах, рассуждает, соображает, предвидит: каждый составляет свой план, по счастливому выражению наших храбрых солдат. Нет Унтер-Офицера, который не мог бы командовать своею ротою; нет Подпоручика, неспособного вести свой батальон. Во всех родах оружия находятся Офицеры высоких достоинств, готовые заместить всякое место.
Посреди противной армии, между племенами дикими и полуазиатскими ордами, которые отчасти входят в ее состав, рабски исполняют полученное приказание, там мало искусства у начальников и понятливости у солдат. Все чины плохо заняты и еще труднее замещаются; каждая смерть, каждая рана, производят пустоту. Выдвигается ли какой либо талант—это иностранец, и по одному этому он подозрителен и даже внушает отвращение.
Должно также сказать, что между этими Офицерами отличались многие Французы, изгнанные из Отечества несчастиями наших старых времен и которым Русские обязаны большею частью своих успехов. Таким образом, Французов встречаешь всюду, где только предстоит приобресть какую-либо славу.
Под знаменами Наполеона видим (за исключением Англичан) избранников Европейской образованности. Корпуса, которым предстоит сражаться под Бородином, заключают в себе небольшое число иностранцев. Однако ж, в них есть эти Итальянцы, наши старинные учители искусств, даже военного искусства; эти Поляки, составившие c нами на полях всех сражений братский союз, воспоминание о котором долгое время будет жить в сердцах сих двух народов; Пруссаки и Вестфальцы, прославленные воины Фридриха; Баварцы и Вюртемберцы, величавшиеся в то время тем, что они первые вступили в союз с нами; Испанцы, Португальцы, Хорваты, которые удивлялись, чувствуя в своем сердце желание превзойти нас рвением. В Главной Квартире было несколько Австрийцев... Все выказывали гордость следовать за большой армией в столь знаменитой экспедиции».
—Фу, хватит, не могу больше! Все перепуталось в голове у этого генерала! Пруссаки стояли под Ригой, Австрийцы гостевали на Украине. Хорваты хорошо сражались в баталиях лишь за кусок хлеба и глоток водки. Французов у Наполеона почти не было. Поляки Понятовского —мифы историков.
—Чем ты недоволен? Это же наши учебники! Такова официальная точка зрения, и эту туфту нам нужно зазубривать и сдавать на госэкзамене.
—А если совершенно случайно я ошибусь и дам другую оценку боеспособности всего сброда, который Ерундобер притащил за собой в Московию?
—Чего ты спрашиваешь, если сам знаешь ответ? Ты лучше почитай бравого генерала Пеле в его описании Бородинской битвы! Ухохочешься!
«Доктор Ларрей полагает потери Французской армии в 97 000 убитыми, и 11 000 или 13 000 ранеными. Бутурлин сознается в 50 000, выбывших из строя, из которых 15 000 убитых. Проезжавшие по полю сражения во время и после дела соглашаются, что число убитых Русских значительно превышало число убитых Французов. Уму моему и теперь еще предносится страшное зрелище, представлявшееся на восточных склонах Семеновского оврага».
—Это чего, французы потеряли больше ста тысяч?! А на одного француза полагалось по 5 убитых русских, как он где-то написал? Тогда, по его подсчетам, русские должны были на Бородинском поле потерять полмиллиона солдат. Но даже по официальным чудовищно завышенным данным потери русских составили всего 50 тысяч, из них —15 тысяч убитыми и 35 000 ранеными.
— Ну да! И в страшном гневе он возмущается русскими писателями, называющими в тридцать раз меньшую против его цифру, т.е. вместо полумиллиона—всего 15 тысяч. Его утешает только сделанный им самим вывод: после Бородина Русская армия перестала существовать. Это так раззадоривает бравого генерала-на-бумаге, что он объявляет войну 1812 года выигранной, а Россию—поверженной. А самое интересное, что «бравый» генерал не только никогда не был признан умалишенным, но, напротив, его труд стал классическим образцом для написания наиболее правдивых эпизодов войны 1812 года. И составители школьных учебников вслед за генералом Пеле и Львом Толстым вставляли его картины в свои описания событий Нашествия Наполеона. Более того, в большинстве европейских стран, и в первую очередь, конечно же, в самой Франции, до сих пор школьникам преподают Пеле-Толстовскую версию 1812 года, в которой русские во всех «битвах» потерпели страшнейшие поражения, Россия проиграла в той войне и стала жалкой колонией Франции…
—Слушай, вот еще его же чуть ниже:
«…можно сказать, что, по вступлении нашем в Москву, главная сила России была почти уничтожена»
— Красота и сила слога бравого генерала—очевидца и описателя кампании 1812 года—сродни красоте и силе слога других описателей «подвигов» маленького капрала. Тут и там мы видим слонов, высосанных из мелких мошек; везде десятки превращаются в сотни тысяч; случайная оплошность—мудрой предосторожностью, жуткие поражения—громкими победами. Таким образом, постоянные поражения русской армии от Единонадесяти языков стали притчей во языцех, и, забываясь, все иностранные и в особенности русские историки продолжают твердить о французских победах даже тогда, когда последние иностранные наемники (банда инвалидов) уже давно покинули территорию Московии.
У Льва Толстого был еще один предшественник—Стендаль. Он сопровождал Наполеона в его походе на Москву и тоже оставил удивительно сочные и крайне правдивые описания сражений:
«Наша армия пошла бить русских под Малоярославцем... говорят, это был великолепный бой, и никогда русских не гнали с их позиций более блестящим и более почетным для армии образом».
—То есть, всю дорогу били русских и гнали как баранов с их позиций—а под Малоярославцем задали им такого перца, что даже видавшие виды русские, уже битые французами всеми самыми почетными образами, еще не испытывали такого позора!
—Круто? Да ты чего, там еще полно таких же описаний. Веселый он был парень, этот Стендаль. Вот еще:
«...Его величество оттеснял русских на Калужскую дорогу и давал великолепные сражения, способные навеки прославить нашу армию».
—Это что, воспоминания очевидца событий? Его ерундоберское величество так оттеснил русских на Калужскую дорогу, что пошел по сожженной им же самим старой смоленской? Ты не помнишь, он тоже был признан вменяемым, или все же немного ку-ку?
—Да нет, никакого ку-ку. Все вполне как у нас в учебниках. Великий писатель, как и Толстой.
—Нет, не могу удержаться. Один раз ему, бедному, пришлось стать действительно очевидцем нападения казаков:
«Так как мы были атакованы в тот вечер огромной ордой пеших людей, то перед нами, по-видимому, было четыре или пять тысяч русских, частью регулярных войск, частью восставших крестьян.
Нас окружили, и отступать было так же опасно, как и идти вперед... если бы нас стали теснить, мы бы бросили наши повозки, снова построились бы маленьким батальонным каре и скорее бы дали перебить себя до одного, чем сдались бы крестьянам, которые все равно не спеша закололи бы нас ножами или убили бы другим каким-либо приятным способом».
Очевидно, французов теснить не стали...
«Все... были согласны в том, что мы пропали... Мы выпили последнее оставшееся у нас вино... Стоял такой туман, что за четыре шага ничего не было видно. Мы беспрестанно останавливались. У меня был томик г-жи дю Деффан, который я прочел почти весь. Враги не сочли нас достойными своего гнева; только вечером на нас напали несколько казаков и нанесли удары пиками пятнадцати или двадцати раненым».
—Ты чего-нибудь понял?! Пр



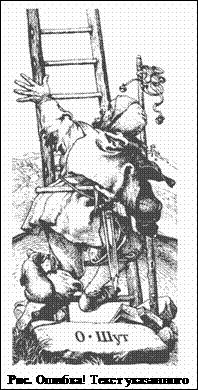 Автор, будучи по национальности греком—а, согласно русской поговорке, «греки и поныне лукави есть»—приветствует издание своего труда в переводе на современный русский язык или сандхьябхашу (к сожалению, на исторической Родине писателя,—древней Элладе, на древнегреческом языке, т.е. родном диалекте писателя —труд автора по цензурным соображениям пока не вышел) . Этот досадный казус (отказ древнегреческих издательств публиковать труд писателя на его исторической Родине) связан с тем, что названный труд не следует идеям Просвещения и тем самым выпадает из потемкинского «греческого проекта», из-за чего Ареопаг отклонил смиренное прошение автора вывесить свой труд на Акрополе в полном объеме. Поэтому приходится довольствоваться малым и приветствовать издание своего труда в «неумытой России», крайне далекой от Просвещения и до сих пор остающейся островком Варварства среди Просвещенных Конфедераций (т.е. Соединенных Штатов) Европы и Америки.
Автор, будучи по национальности греком—а, согласно русской поговорке, «греки и поныне лукави есть»—приветствует издание своего труда в переводе на современный русский язык или сандхьябхашу (к сожалению, на исторической Родине писателя,—древней Элладе, на древнегреческом языке, т.е. родном диалекте писателя —труд автора по цензурным соображениям пока не вышел) . Этот досадный казус (отказ древнегреческих издательств публиковать труд писателя на его исторической Родине) связан с тем, что названный труд не следует идеям Просвещения и тем самым выпадает из потемкинского «греческого проекта», из-за чего Ареопаг отклонил смиренное прошение автора вывесить свой труд на Акрополе в полном объеме. Поэтому приходится довольствоваться малым и приветствовать издание своего труда в «неумытой России», крайне далекой от Просвещения и до сих пор остающейся островком Варварства среди Просвещенных Конфедераций (т.е. Соединенных Штатов) Европы и Америки. Но наиболее интересно сопоставление описания первого сватовства Наполеона у тех же двух авторов. На этот раз лучше начать с Верне:
Но наиболее интересно сопоставление описания первого сватовства Наполеона у тех же двух авторов. На этот раз лучше начать с Верне: Увлекательное, знаете ли, милостивые государи, я вам скажу, занятие—перечитывание историй великих сказочников в компании с Верне и другими Фукидидами —официальными биографами Наполеона! Столько открывается новых подробностей из жизни великого авантюриста (Булгаков в своей неоконченной повести «Похождения Чичикова», правда, назвал Чичикова мошенником—но да дело-то не в том, как назвать), столько захватывающих сюжетов, могущих составить славу и величие любому начинающему писателю—но Гоголь, со свойственной ему скромностию, поместил почему-то сии великолепные образчики живости и изворотливости ума своего главного героя Чичикова в самый конец своего повествования. И все же мы в состоянии произвести с жизнеописанием Чичикова все необходимые подмены и подстановки и раскрыть иносказания, и, наконец, увидеть то, что занимало сказочников и литераторов и весь XIX век: КАК безродный, ничем особенно не выделявшийся уродец сумел так перевернуть историю Европы, что составил в этой истории целую эпоху и затмил своей славой величайших героев Древности—Александра Македонского, Ганнибала и др.?
Увлекательное, знаете ли, милостивые государи, я вам скажу, занятие—перечитывание историй великих сказочников в компании с Верне и другими Фукидидами —официальными биографами Наполеона! Столько открывается новых подробностей из жизни великого авантюриста (Булгаков в своей неоконченной повести «Похождения Чичикова», правда, назвал Чичикова мошенником—но да дело-то не в том, как назвать), столько захватывающих сюжетов, могущих составить славу и величие любому начинающему писателю—но Гоголь, со свойственной ему скромностию, поместил почему-то сии великолепные образчики живости и изворотливости ума своего главного героя Чичикова в самый конец своего повествования. И все же мы в состоянии произвести с жизнеописанием Чичикова все необходимые подмены и подстановки и раскрыть иносказания, и, наконец, увидеть то, что занимало сказочников и литераторов и весь XIX век: КАК безродный, ничем особенно не выделявшийся уродец сумел так перевернуть историю Европы, что составил в этой истории целую эпоху и затмил своей славой величайших героев Древности—Александра Македонского, Ганнибала и др.?


