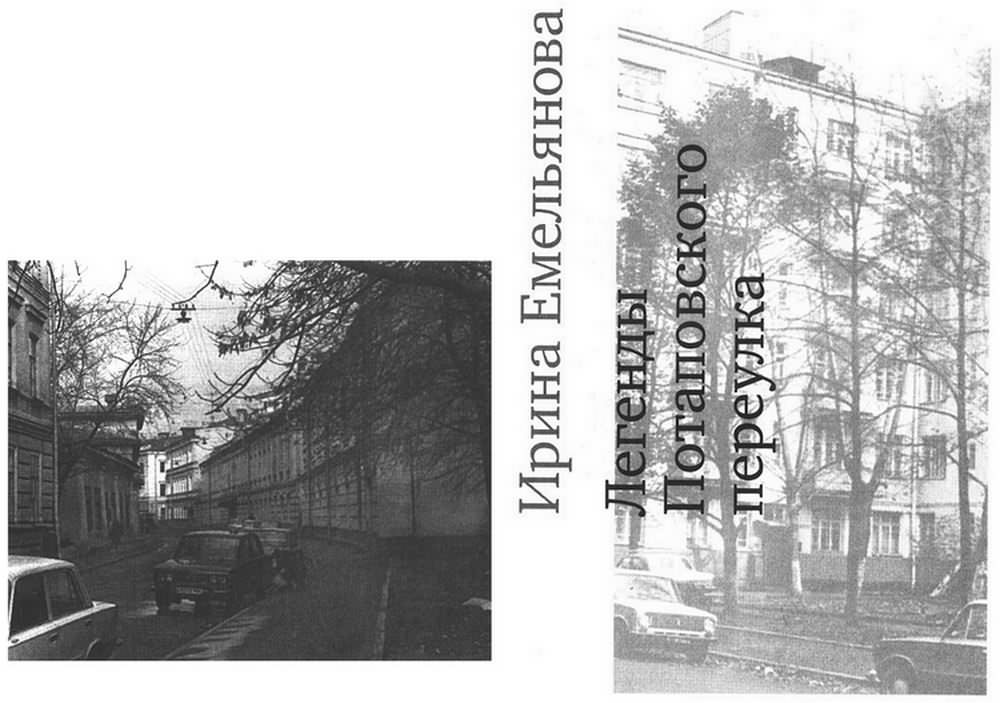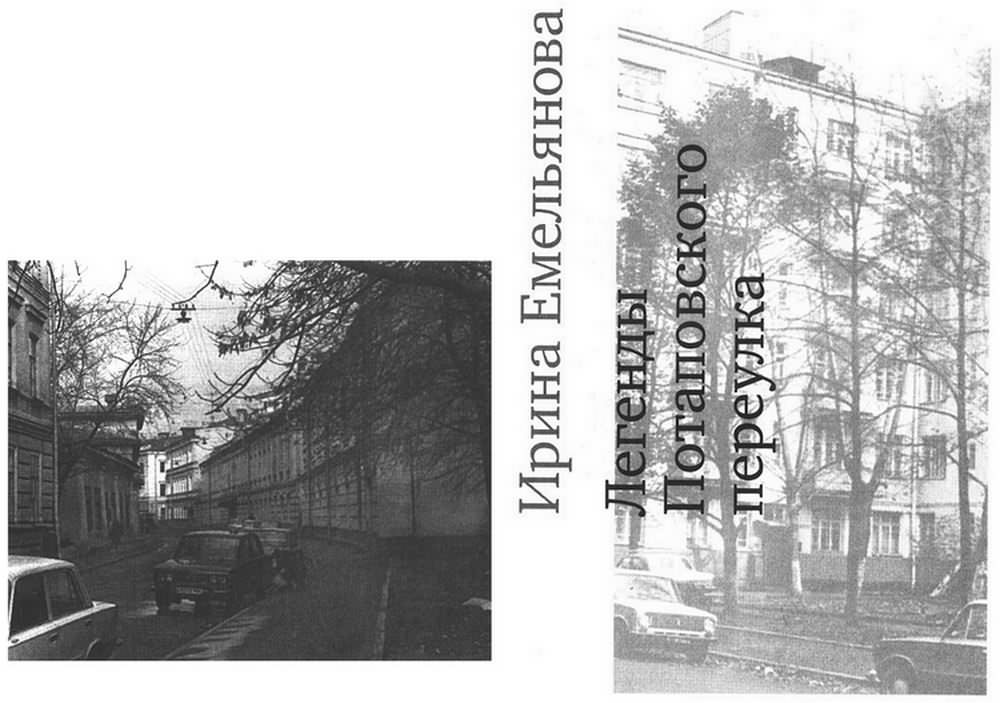
БОРИС ПАСТЕРНАК
Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, – дело наших сердец, пока мы дети.
Б. Пастернак. «Охранная грамота»
Весенний день тридцатого апреля
С рассвета отдается детворе…
Б. П.
По‑моему, это было именно тридцатого апреля.
Мне девять лет. На мне розовое парадное платье с бантами в тон. Привыкшая к военной и послевоенной бедности, я чувствую себя ужасно неловко. Но дело не только в платье. Сегодня у нас официальный прием – первый раз к нам в Потаповский должен прийти Б.Л., и от меня в связи с этим чего‑то ждут.
Уже давно до наших детских ушей долетают суровые суждения бабушки о невозможном, немыслимом ни с какой точки зрения романе матери с женатым человеком («Моих лет!» – восклицает наша бабушка). Для нас не секрет и ее вечерние дежурства на балконе, когда между рядов «хмурых по случаю своего недосыпа» лип нашего двора (позднее я догадываюсь, что речь шла именно о них) долго бродят две фигуры – одна из них мать. Прощающиеся уходили во внутренний двор – бабушка перемещалась к другому окну, и все это до тех пор, пока громкий, рокочущий на весь переулок голос Б.Л. – «Посмотрите, какая‑то женщина хочет выброситься с шестого этажа!» – не отгонял ее от наблюдательного пункта.
Кроме темных силуэтов между лип были и более ощутимые сигналы идущего где‑то в другом мире романа: время от времени наша крохотная квартирка оглашалась призывными стуками, почти по системе Морзе, – стучали по радиатору ниже этажом наши соседи, счастливые обладатели редкостного в то время телефона, вызывая мать. Стукнув в ответ по вздувшейся от военной сырости стенке, мама мчалась вниз. Возвращалась не скоро, с лицом отсутствующим, погруженная в себя. В этих слухах, стуках, подглядываниях прошел первый год романа, и вот теперь, когда его неотвратимость осознана, совершается официальный прием.
Бедная мать волнуется. Боится за деда – милого, доброго, но, увы, безнадежно отставшего по своим поэтическим привязанностям «некрасовца», явного, даже воинственного антимодерниста. О страхе перед решительным характером бабушки и говорить нечего. Одна надежда на меня.
Накануне вечером мама долго читала мне стихи. «А теперь прочти ты. Я знаю, ты хорошо прочтешь». Я читаю: «Дрожат гаражи автобазы…» Почему‑то я не могу понять в них ни слова. Даже наверняка знакомые мне слова – гараж, автобаза, попав в эти стихи, поворачиваются непривычной стороной, и мне кажется, что я вижу их впервые. Не узнав, я произношу с немыслимым ударением – гаражи. Мать расстраивается, но делать нечего.
На столе коньяк, шоколадные конфеты. Наверное, мама боялась, что обычное наше угощение покажется Б.Л. недостаточно интеллигентным, и морила его голодом.
Вот наконец и он. Девять лет – возраст, когда вполне возможно точно запомнить и описать впервые увиденного человека. Однако я не помню, каким увидела Б.Л. весной 1947 года, – осталось общее впечатление чего‑то необычного: гудящий голос, опережающий собеседника; это знаменитое «да‑да‑да‑да» «поверх барьеров», вне беседы, «ни к селу ни к городу»; смуглость, чернота волос (хотя он тогда уже начал седеть); странный африканский профиль… Во всяком случае, он мало походил на того легкого, седого, моложавого, красивого Б.Л., которого я видела так часто после 1953 года и чей образ вытеснил из моей памяти эту смесь «араба и его коня», представшую передо мной в апрельское утро 1947 года.
Мама говорит, что я пишу стихи, и я от стыда готова провалиться сквозь землю. Б.Л. обещает, что он обязательно посмотрит, только не сейчас. И вдруг на меня обрушивается целый монолог на тему о том, сколько вреда русскому стиху принесли он и Маяковский, как было бы хорошо, если бы они не занимались поэзией, а шили костюмы или подметали улицы. «Ну что вы, нет, нет, – бормочу я, будучи до предела воспитанным ребенком. – Этого не нужно, зачем… нет, что вы…»
Поэму свою я для него переписала: это была история испанской красавицы Изолины де Варгас. Но Б.Л. так и не прочел ее – больше «семейных приемов» не было, наступила пора «разрывов». Затем, правда, их снова бросало друг к другу. Ну а потом мамин арест, тюрьма, лагерь… Хотя именно в эти годы, когда мы Стали круглыми сиротами, Б.Л., чувствуя свою ответственность, свою невольную вину, часто интересовался моим «творчеством». (Я, слава богу, подросла и стала скрывать свои сочинения.) Вот одна сохранившаяся открытка, присланная мне в тот же Потаповский уже позже, когда мама отбывала свое в Мордовии, уже умер не выдержавший горя дед, мы были бедны и одиноки:
«Дорогая Ирочка!
Мне всегда бывает некогда, и я тороплюсь, когда захожу к вам. Для того чтобы я мог прочесть твои стихи, о которых была речь зимой, и рассказ, надо, чтобы ты их переписала (от руки, конечно) и я их захватил с собой для прочтения. Сделай, пожалуйста, это в свободную минуту. Тогда я тебе напишу или на словах скажу свое мнение. Я уверен, что все это очень интересно и хорошо.
Твой Б. Л.
3 мая 1952 г.».
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства.
А. Пушкин. «Евгений Онегин»
Что же это было за семейство? Течение какой жизни, какого обихода нарушил нечаянной кометой ворвавшийся в ее атмосферу поток чужого существования?
Мама познакомилась с Б.Л. в 1946 году в редакции «Нового мира», где она тогда работала и куда он принес первую книгу романа «Доктор Живаго», называвшегося в то время «Мальчики и девочки». Матери немногим более тридцати, она очень хороша собой. И прелестный образ молодой женщины в беличьей шубке, шагнувшей ему навстречу, был сразу же «нарезом» проведен по его сердцу. Однако по ковровой дорожке «Нового мира» навстречу Б.Л. шагнула отнюдь не девочка, отнюдь не простодушная Гретхен, какой она показалась ему в тот знаменательный день.
В одну из первых их прогулок по площади Пушкина, когда мама, по ее собственным словам, не могла еще поверить, не могла отнести к себе туманные признания, прорывавшие поток темпераментной, захлебывающейся речи Б.Л., он ей сказал примерно следующее: «Вы не поверите, но я – такой, каким вы меня видите сейчас, старый, некрасивый, с ужасным подбородком, – но я был причиной стольких женских слез!» Мать не сделала ему ответного признания, но, вернувшись после объяснения домой, всю ночь не спала – описывала свое собственное непростое прошлое. Целую тетрадь исписала. И ей было о чем писать в этой тетрадке, и было от чего волноваться, когда она вручала ее при следующем свидании с Б.Л. Очень живо представляю себе, как обезоруживающе подействовала на него эта ее доверчивость, открытость и скольким Лара во второй части романа обязана материнской тетрадочке: отчаянностью, доверием судьбе, все перекрывающей жалостью.
Что же это была за тетрадочка? Мама рассказывала о судьбе двух своих покойных мужей, судьбе непростой, трагической. Наверное, только в послереволюционной России, когда все, по выражению Толстого, «переворотилось, да так и не уложилось», возможны были такие скрещенья судеб, в жизнь врывались люди, с которыми просто невозможно было бы пересечься, не будь великих социальных потрясений. Я понимаю, какое знамение времени видел Б.Л. в по‑разному оборвавшихся жизнях этих двух людей.
Сначала о моем отце – Иване Емельянове. В нашем семейном альбоме есть фотографии высокого человека с тяжелым, мрачным, но красивым лицом, с атлетической фигурой участника первых физкультурных парадов. Это Иван Васильевич Емельянов, фамилию которого я ношу. Он был вторым (или третьим?) маминым мужем, прожили они, правда, совсем недолго. Глядя на его лицо, трудно поверить, что он простой крестьянин из‑под Ачинска, что его мать, старуха в черном платке, – неграмотная деревенская баба. В этой семье чувствуется порода и красота.
По комсомольскому призыву Ваня Емельянов из далекой Сибири приезжает в Москву, здесь он кончает рабфак, потом – университет, становится директором школы рабочей молодежи. Я помню, что в детстве нашла в книжном шкафу завещанное мне «наследство» – готовальню: «Дочери моей Иринушке», детские издания: Бонч‑Бруевич – книги о Дзержинском, Орджоникидзе, Сталине с той же надписью. Отец купил их, когда мне не было и трех месяцев. А через полгода он повесился, узнав, что мама хочет уйти от него и забрать ребенка. На похоронах товарищи по партии проклинали мать: «Ваня, Ваня, из‑за бабы, из‑за…» Это было в 1939 году.
Конец тридцатых годов… Аресты, процессы… В нашем доме (кооператив 1930 года, отошедший к Министерству обороны) жило много военных – Гамарник, военспецы, офицеры из штаба Тухачевского. Как опустел он за эти годы, и только «воронье» (чекисты) копалось на пепелищах разгромленных квартир. А одновременно – сорвавшиеся с цепи советские администраторы устраивают валтасаровы попойки, «моральные устои» трещат по швам, в месткомах смакуются дела по «разложению». Емельянов явно был человеком другого склада – верным семьянином, тяжелым и требовательным мужем. Конечно, матери было трудно жить с ним. Вспыхивали и гасли мимолетные романы. Брак этот был обречен.
Как ни горевала бедная мама, считая себя виновницей гибели несчастного Вани, ей не пришлось долго носить траур. Справлялись поминки, где ее проклинали его друзья, а у подъезда дома ее уже ждал человек в кожаном пальто, вполне и со вкусом вписавшийся в новый советский быт. Это Александр Виноградов, отец моего брата Мити. Родом он из деревни Светлые Ключи Владимирской области. Огромная семья, непролазная бедность, болезни, пьянство. По‑видимому, яркий, инициативный человек, он уже в четырнадцать лет руководит комбедом, быстро становится председателем колхоза, уезжает в город. Там на мутной волне «великого перелома» 1929 года выбивается на руководящую работу. Он – администратор, кадровый работник. В одной из своих ипостасей – главный редактор журнала «Самолет» при модном тогда ОСОАВИАХИМе. В редакции этого журнала работает мать, которой по душе его широкая русская натура, обаяние, щедрость. Да и служебный автомобиль, шофер Вася с белозубой улыбкой (есть фото в нашем альбоме), танцы в «Ударнике», на рассвете поездки на дачу, с клаксонами, с пластинками, с шампанским. Будят маленького ребенка, бабушку – застолье, патефон на траве, прелестные женщины в крепдешиновых платьях… Можно подумать, что счастье улыбнулось.
Вскоре мама выходит за него замуж. Она уже беременна, ждет второго ребенка, и тут арестовывают бабушку. А Виноградов и бабушка давно не ладят. Они совсем из разных миров. Он – убежденный коммунист, с энтузиазмом принявший октябрьский переворот, выдвиженец, делающий блестящую советскую карьеру. Она – с дворянскими предрассудками, к режиму относится скрыто неприязненно, да и лампадку не забывает зажигать перед по‑прежнему висящей в углу иконой. И вот накануне Нового, 1941 года за ней приходят. Рассказывают, что меня, двухлетнюю, еле оторвали от рыдавшей бабушки. Мать начинают мучить подозрения. Обвиняют Марию Николаевну Костко в антисоветской агитации, в частности в критике фильма «Ленин в Октябре», которая вроде бы за пределами квартиры не звучала… Впрочем, в те годы арестовывали так часто, что это никого не удивило, но тем не менее между мамой и мужем, который клянется, что невиновен, происходят безумные сцены.
Хотя уже началась война, суд предполагается открытым, мама берет адвоката. И этот адвокат при тайном свидании с ней в комиссионке на Арбате доверительно сообщает, что видел в деле неожиданные показания самых разных людей. Разумеется, мама не сдержала слова, данного Аронову, адвокату, который по молодости был недостаточно осторожен и рассказал много лишнего. Нервы сдают, она выпаливает мужу все, что узнала. Тут даже Шекспир мог бы попросить другое перо! Наступает день суда, вводят похудевшую, но веселую бабушку (о, она вполне уверена, что с таким адвокатом пронесет!), и тут Аронов, бледный, сообщает маме, что его судья только что отстранил от дела. Суд, однако, не откладывается, в числе свидетелей выступает и Виноградов, он защищает бабушку блестяще. Ей дают всего лишь шесть лет лагерей!
Оставим в этой истории темные пятна. Когда‑нибудь юный член «Мемориала» разыщет в Красногорском архиве истлевшую папку дела Марии Николаевны Костко, оживут и заговорят его герои. Но это уже не на нашем веку.
Как ни тягостны были испытания военных лет, они принесли даже известное облегчение – кончились доносы, подозрения, внутрисемейная ложь. Беды стали не мнимыми – настоящими: надо было выживать, спасать детей, семью.
Виноградов умер в самом начале 1942 года от воспаления легких, оставив мать и больного деда с двумя маленькими детьми, а также всю свою огромную деревенскую родню, которую он содержал и возил за собой. Мама героически бьется эти военные годы, сдает кровь, по ночам выкапывает оставленную на полях картошку, ездит по деревням менять тряпки на муку, дед начинает сапожничать. От бабушки нет никаких известий. Мы знали только, что она находится в лагерях Горьковской области на станции Сухово‑Безводное. Это Сухово и это Безводное, склоняемое дедом и матерью в различных падежах много лет, начинает казаться нам с Митькой каким‑то Кощеевым царством, где лежат сухие кости на сухой, без капельки воды, земле. Однажды мы узнаём, что лагеря бомбят, заключенные гибнут от голода и болезней. Мама решается ехать… Без билета, под лавками, в теплушках, где солдаты прячут ее, прикрывая своими мешками и загораживая сапогами, добралась она до места. Из этого путешествия мама привозит почти полумертвую бабушку и рассказы о солдатской доброте – никто не тронул ее, молоденькую и красивую, одну; наоборот, помогали, вспоминая, может быть, своих сестер или невест. Но это не последнее путешествие матери в теплушке и не последние солдаты, – правда, вот доброта…
Когда бабушка в черных лохмотьях, с суковатой огромной палкой появилась в нашей квартире, я завизжала от ужаса – это был настоящий Кощей из настоящего Сухово‑Безводного. И напрасно счастливый дед умолял поцеловать бабушку, меня безумно любившую, – я не могла подойти к ней целую неделю.
Прошло около трех лет, и прелестная молодая женщина, похожая на Гретхен, стоит у окна «Нового мира», накинув на плечи старенькую беличью шубку. Но слишком жива еще память о несчастных и погибших, их неостывшие тени еще бродят по нашей квартире, и когда Б.Л. посмотрел в ее красивые голубые глаза, он в них, наверное, мог многое прочитать.
Увы, прием не принес мира в наш дом, бурлящий скрытыми страстями, которые до меня, девятилетней, доходили глухими подземными толчками. Прошел год, бурный и странный, мать часто рыдала в своей комнате, взрывалась, в деда, милого, бедного моего деда, которого мы с Митькой без памяти любили, летели ложки и чашки, когда он начинал подшучивать над стихами Б.Л. и, запинаясь, воспитанный на Некрасове, пробовал читать «Сестру мою – жизнь». Бабка осталась непримиримой, ее все не устраивало: и то, что Б.Л. женат, а у матери двое детей, и надо подумать об их обеспечении – нужен муж; и то, что он старше мамы намного; и то, что все «не как у людей». И откуда только у нее взялась эта страсть к респектабельности?
Неожиданно крики и скандалы прекратились. В доме стало тихо, бабушка ходила с виноватым видом и о чем‑то шепталась с дедом на кухне. Мы с Митькой играли в маминой комнате, которая вдруг опустела. Мать исчезла. Признаться, мы, привыкшие к обществу бабушки и деда, мало интересовались ее отсутствием. Но прошло несколько дней, а она не появлялась. Из приглушенных разговоров старших мы узнавали страшные вещи: она в сумасшедшем доме, в больнице имени Ганнушкина. Бабка сама написала заявление, чтобы ее забрали. Это оказалось неправдой. Она отравилась. Она в больнице и умирает. Но и это было не совсем так. Она отравилась, но была не в больнице, а у своей приятельницы Люси Поповой, которую бабка считала источником многих неприятностей, и домой возвращаться не хочет. Мы с Митькой присмирели и притаились.
Мы уже привыкли жить без матери, как вдруг она вернулась, виновато просунув в дверь бледное личико, как‑то по‑новому, по‑больничному, повязанное простым платком. Она вернулась тихой и какой‑то маленькой и долго не выходила из дома. Но потом все пошло по‑прежнему.
И год спустя, опять в весенний день, когда по нашему переулку текли апрельские ручьи, в намокшей шубе, перешитой из бабкиной дохи, я шла с Б.Л. «в центр» за покупками. Он получил деньги и хочет сделать мне подарок. Мы идем в книжный магазин. Я впервые наедине с этим совершенно непонятным для меня человеком, перевернувшим вверх дном нашу и без того незадачливую жизнь. Я безумно стесняюсь и не знаю, как себя вести.
– Как мокро. Мы можем промочить ноги, – говорю я.
Б.Л. отзывается стремительно, целым потоком фраз, перекрывающим клокотанье ручьев и сливающимся с ним, так громко и взволнованно, что я с испугом озираюсь на прохожих: «Тебе кажется, что нужно что‑то говорить. Что нельзя молчать, что нужно развлекать меня. Я тебя так понимаю, мне это так знакомо!»
Признаюсь, после этого я не почувствовала себя свободней. Но меня пронзила точность попадания – в самую сердцевину моего состояния, моего детского страха неловкости. У меня была выбита почва из‑под ног. Теперь он разгадает каждое мое слово.
К счастью, мы ловим такси. Приезжаем на Кузнецкий и поднимаемся на второй этаж в Лавку писателей. Б.Л. шумно здоровается с продавщицами, представляет им меня, что мне ужасно не нравится и кажется странным, заполняет собой, своим голосом, движениями тесную магазинную верхотуру Но я вижу, что его любят здесь, не воспринимают как чудака, и успокаиваюсь. Он спрашивает, какие книги мне нравятся. В замешательстве я отвечаю, что хочу Чехова. Мы покупаем великое множество разных книг – только русскую классику – огромные прямоугольные фолианты Гончарова, Островского, Тургенева, столь широко выпускавшиеся в те годы. И Чехова.
Потом возвращение домой, в такси, загруженном перевязанными свертками. Я держу входную дверь Б.Л., он – мне, наконец мы протискиваемся вместе, едва не уронив в расплывающийся снег покупки, и поднимаемся с этим драгоценным грузом на шестой этаж – мы дома. Слышу гудение голоса Б.Л. за дверью маминой комнаты: «Олюша, как хорошо, что она хочет Чехова!»
Такие подарки он делал мне регулярно. Вот обтрепанный детгизовский Чехов издания 1947 года, на титуле – размашистый любимый карандаш:
«Дорогая Ирочка, золотая, прости, что я не пришел вчера на твое рождение. Будь счастлива всю жизнь, хорошо учись и будь прилежной, это лучше всего.
Твой Б. Л.
25 мая 1948 г.».
Детгизовский «Гамлет» издания 1947 года, на титуле:
«Твоим детям, когда они вырастут, но к тому времени Гамлета переведут еще лучше и, во всяком случае, будут лучше издавать.
Будь счастлива и здорова.
Б. Пастернак
1 окт. 1947».
Детгизовская биография Фарадея:
«Дорогой Ирочке к Новому году На память.
Б. Пастернак
11 дек. 1947».
Детгизовский «Генрих IV»:
«Моей Ирочке
Б. Паст.»
Но вот минует и этот, достаточно тяжелый, но весьма смутно запомнившийся год, и наступает другой, страшный уже по‑настоящему, распадающийся на четкие, навсегда оттиснутые в памяти картины сорок девятый.
В жизни человека обыск и арест – немаловажная веха, и, по‑моему, каждый должен написать историю своего ареста, как писали раньше историю первой любви. Но какой же описать мне? В нашем семействе их было слишком много, и сейчас, когда я стараюсь осознать, какой же из них сыграл наибольшую роль в моей жизни, то просто теряюсь. Может быть, этот, второй, мамин? (Первый – бабушкин – 1941 год.) Потому что мне было только десять лет, и это тот возраст, когда уже все помнишь, но мало что понимаешь. Первое простукивание стен, шепот деда: «Золото ищут? Или тайник?» Первое опечатывание двери. Первый акт о вскрытии печати. Первое пробуждение наутро: как идти в школу? Как сказать об этом? Как жить?
Шестое октября. Я возвращаюсь из школы. В портфеле у меня новая повесть Л. Кассиля «Черемыш – брат героя», которую мне дала подруга Галя всего на вечер – в классе на нее очередь. Я не успеваю позвонить в дверь, как ее распахивает ослепительно улыбающийся военный. В октябре темнеет рано. И хотя до вечера еще далеко, всюду зажжен верхний свет, что бывало в исключительных случаях, и на каждом стуле кто‑то примостился. На вешалке – голубые околыши, шинели, из маминой комнаты тянет непривычным папиросным дымом, сквозь полуоткрытую дверь видны разбросанные на полу журналы и книги. Я повесила свое пальтишко поверх шинелей и осторожно, как не у себя дома, присела на край стула. Рядом, опустив голову, сопел усатый дворник, в ватнике и белом фартуке поверх него. На маленьком красном диванчике>безумно испуганный, что‑то бормочущий А. Крученых. Он часто забегал к нам по вечерам (жил неподалеку) поужинать, поиграть в карты (игрок он был очень азартный и… лукавый!), порыться в книгах – и вот влип. Около него на том же диванчике нелепая фигура брата деда – Афанасия, дяди Фони, как мы его называли. Он забрел на огонек и в полном ужасе, ничего не понимая, таращил свои огромные голубые глаза – давно был немного не в себе. Заплаканное лицо бабушки. Ясно – в доме беда. Что‑то с мамой.
Пахнет валерьянкой и еще какими‑то лекарствами, – это деду плохо, у него сердечный приступ. Глухая тетка из Сухиничей, приехавшая погостить на «октябрьские», тычется из угла в угол. Она ничего не умеет, не знает, как помочь, где лекарства, но уж суть происшедшего понимает отлично: дядя Володя, ее муж, перед войной расстрелян в Архангельске как спец – вредитель леса. И с тех пор она по Козельскам да Сухиничам, библиотекаршей при школе, глухая, маленькая, тише воды, ниже травы. Да и все мы такие в этой квартире: старики, вдовы, дети – а квартир таких по всем домам, а домов таких по всей стране… В маленькой комнате спали мы с братом и сестрой бабушки, неизлечимо больной, почти не встающей с постели, тяжелым инвалидом. Она жила только радио и книгами, но знала почему‑то всегда больше других. Это она объяснила мне: идет обыск, мать уже увезли час назад на Лубянку. Эта тетка тоже не новичок в таких переплетах – в тумбочке возле своей высоченной кровати хранит она извещение, что муж ее, Виктор Станиславович Войцеховский, бывший польский офицер, арестован в Алма‑Ате как отравитель лошадей, приговорен к расстрелу в 1937‑м, и приговор приведен в исполнение. От нее получаю я и две установки, две ключевые фразы: «время сейчас очень сложное» и в ответ на вопрос о вине матери: «нет дыма без огня».
А вокруг переплетается трагедия с фарсом, сливаясь в сплошной кошмар. У присутствующих требуют удостоверения личности, документы, «бумаги». Открывают и мой портфель. «Черемыш – брат героя» откладывается в сторону, в стопку, в которой узнаю маленькие, изящные томики – «Второе рождение», «1905 год»… Но «Черемыш», данный на один вечер? Что я скажу Гале Тюриной завтра? А ведь «завтра» будет! Я бросаюсь на защиту. Полковник (а может, майор? – плохо разбираюсь) смягчается, трясет книгу, щупает корешок: «Держи. Интересная вещь, стоит читать?»
У Крученых при себе документов не оказывается. Он объясняет, что он поэт, футурист, член ССП, друг Маяковского, вот только что вышла книга – «Крылатые слова», там его выражение «заумь», как крылатое. Он лезет в портфель, знаменитый, обтрепанный до невозможности портфель Крученых, где хранилось немало сокровищ, добытых разными путями, вытаскивает книгу, тычет в абзац…
Больше всех испуган дядя Фоня, который работал тогда в коктейль‑холле на улице Горького ночным сторожем. Часто приносил нам соломку для коктейлей, салфетки деду, какие‑то разноцветные ленточки. Он решил, что для него пришел час расплаты, что «бумаги» – это салфетки и пипифакс, который он брал все‑таки украдкой, что вся эта торжественная обстановка, военные, дворник – все это, чтобы арестовать его за кражу. Впрочем, я не знаю, что именно он думал, но ужас, с каким он вытаскивал из кармана мятые салфетки, «бумаги», был неподделен.
Крученых, несмотря на внешнюю богемность, был невероятным педантом и свято соблюдал режим дня, который предписывал ему лечь спать ровно в одиннадцать, а тут не отпускали домой. Там у него снотворное, он привык спать в собственной кровати, он просто сосед, он не имеет никакого отношения… Все это он выкрикивал довольно нервно, но безуспешно. В конце концов он набрал в рот воды – у него был такой странный метод беречь горло, лишая себя возможности говорить, и улегся на крохотном диванчике.
Хлопали двери, кто‑то уходил, приходил. Передавались новости. Оказывается, дед услышал, как майор, отвозивший мать, сказал главному, что «плохо довезли», что она плакала в машине. Глухая тетка никак не могла разобрать, о чем он говорит, ей кричали в самое ухо: «Плохо довезли…» Эти по слогам повторяемые слова, бормотание Крученых, сопение дворника, хлопанье дверей – все слилось, смешалось у меня в голове. И скворчонком стучала мысль: «Как идти завтра в школу? Как сказать об этом в классе? Как жить?»
Еще одна деталь, маленький символ, запомнилась мне из того страшного дня – круглая стеклянная банка, в которой я держала рыбок, пучеглазых «телескопов», вуалехвосток. Рыбам нужно было менять воду ежедневно, к вечеру они начинали задыхаться, подплывали к поверхности воды, судорожно разевая рты. Я не могла оторвать глаз от этих рыб. Надо было заставить себя обратиться к «главному», испросить разрешения выйти на кухню, набрать воды, пересадить рыб. У Мити, брата, которому было тогда семь лет, такая же проблема возникла с ежом – еж оставался на балконе, куда он вынес его погулять на час, не зная, что через час дом будет уже не наш дом и балкон нельзя открыть когда хочешь.
Было часа два или три ночи, когда, опечатав дверь в комнату мамы, составив непременный акт о «наложении печати», сотрудники приступили к решению нашей судьбы. Мы с Митькой лежали в темноте, прислушиваясь к голосам за стеной. «Детский дом, детский дом», – твердили мужские голоса, а бабушка что‑то неуверенно им возражала. Конечно, мы теперь были круглыми сиротами – без отца и матери. Дед получал всего шестьдесят шесть рублей как инструктор сапожного дела в доме инвалидов. Правда, еще подрабатывал, у него вообще были золотые руки, и, лишенный возможности преподавать (как же, сын священника!), он выучился сапожничать. Брал на дом заказы: вечерами стучал молотком на кухне, подбивая подметки, каблуки. Получал какие‑то крохи. Но как жить на это огромной семьей?
Всю ночь мы не могли заснуть и лишь под утро немного успокоились и задремали: бабка и дед подписывают какую‑то бумагу, в которой отказываются отдавать нас в детский дом и берут под опеку. С этого дня дед перестал быть для нас дедом и превратился в «опекуна».
Но настоящим нашим опекуном стал Б.Л. После свершившегося несчастья бабушка примирилась с нереспектабельным маминым романом. Б.Л. стал для нас источником существования, первые годы – главным, а после смерти деда – единственным. Ему мы обязаны бедным, трудным, но все‑таки человеческим детством, в котором можно вспомнить не только сто раз перешитые платья, гороховые каши, но и елки, подарки, новые книги, театр. Он приносил нам деньги.
Вот он сидит у огромного нашего стола, покрытого старой клеенкой, в одной из двух оставшихся комнатушек (комнату матери бабушка стала сдавать жильцам), не снимая пальто, длинного, черного, в котором ходил до последних дней, и в черном каракулевом пирожке, уже и тогда неновом. Как всегда, он очень торопится – и действительно, ему некогда, но, кроме того, он хочет уйти от зрелища нашего неблагополучия, от своей безумной жалости к нам, меру которой я только спустя много времени смогла себе по‑настоящему представить, от надрывающих душу бабкиных рассказов. Когда я слушала их, я просто каменела от стыда: ну зачем так разжалобливать? Зачем так преувеличивать? Ну ездили с восьмилетним Митькой в Перово, отвозили посылку (в Москве такие отправления не принимали), ну был ветер, ну мать жалуется в письмах, но все‑таки жить‑то можно. Я начинала демонстративно смотреть в книгу, что Б.Л. сразу же отмечал и, как всегда, – попадал: «Ирочка, ты, конечно, не хочешь, чтобы я ушел, но мне действительно надо спешить…» Ритуальный шумный поцелуй на прощанье, хлопает дверь, Б.Л. быстро – так бегал он до самого конца своих дней – спускается по лестнице. А теперь бабка положит деньги в сумку, пойдет платить за квартиру и накупит нам всяких вкусных вещей.
1949, 1950, 1951‑й… Тянутся эти ужасные годы, как похоронные дроги, и каждый хуже предыдущего. Сколько раз бабушка повторяла в те дни: «Пришла беда – отворяй ворота!» И сколько раз повторяла это я уже десять лет спустя.
Еще идет следствие. Вдруг бабушка получает какой‑то таинственный знак и едет на свидание к неизвестной женщине, сидевшей вместе с матерью на Лубянке, но выпущенной. Возвращается сама не своя. Мать беременна, пять месяцев. Измучена ночными допросами. Правда, получает дополнительное питание и лишних двадцать минут прогулки. Об этом срочно сообщается Б.Л., который приходит в отчаянье. Его самого в скором времени вызывают на Лубянку, и он отправляется туда в полной уверенности, что ему выдадут ребенка, – кажется, даже захватывает какое‑то одеяльце. Но вместо ребенка на стол кладут кипы его книг, отобранные у матери при обыске, – его подарки ей во время их романа, с нежными надписями, которые он, вернувшись к себе, почему‑то вырывает. Может быть, потому, что их изучали на Лубянке? <…>
Прошло более четырех десятилетий, и в 1992 году, в разгар постперестроечных надежд, я пришла на Лубянку, чтобы ознакомиться с этим делом «изнутри» – прочитать протоколы маминых допросов, начиная с того октябрьского вечера, когда мы, совсем еще маленькие, ждали решения своей судьбы. А что же происходило в это время внутри тюремных стен?
В 1992 году Лубянка была уже не такой страшной – и дежурные приветливые, и трехцветный флаг над входом, и симпатичный полковник в джинсах, принесший мне мою папочку. Возникало обманчивое чувство, что, может быть, подтаяли кровавые стены… Для тех, кто хотел ознакомиться с делами своих репрессированных родственников, на Кузнецком отвели небольшую комнату – слишком небольшую для всех желающих: очередь на «ознакомление» тянулась месяцами. Комната была набита людьми, шелестели выцветшие страницы, громоздились страшные серые папки, канцелярские «амбарные книги» с номерами дел. Рядом со мной кто‑то читал протоколы по делу Сергея Эфрона. Папок была целая гора, так как следствие велось разными ведомствами – и прокуратурой, и разведкой, и НКВД. Более десятка томов возвышалось на столе, почти скрывая читавшего. Вот так в этих стенах в последний, может быть, раз снова скрестились судьбы мамы и Ариадны Сергеевны Эфрон, Али, верного друга нашей семьи. На одном столе лежали их «дела», их тайны, одновременно они вышли на свет и заговорили.
Был душный московский июль, раскаленный Кузнецкий дышал в окна; посетители, в основном пожилые, томились от жары, вытирались платками, многие плакали. Женщина средних лет склонилась над тоненькой папкой 1933 года и рассматривала высохшую, желтую четвертушку бумаги – приговор о расстреле отца. «Включите хотя бы вентилятор», – попросила она симпатичного полковника. Тот подошел к огромному, с резиновыми лопастями, старомодному вентилятору, стоящему на том же столе, включил. Лопасти рванули, поднялся вихрь, и иссохшая четвертушка рассыпалась прямо на глазах – осталась пыль – как Дракула при свете солнца.
Моя папка была новее – октябрь 1949 – июль 1950 года. Открывала я ее, признаться, с некоторой тревогой. Столько слухов ходило в Москве по поводу маминого ареста, недоброжелатели объявляли ее уголовницей, приписывали получение денег по чужим доверенностям, еще что‑то, не помню… (Хотя каждому даже косвенно столкнувшемуся с карательной системой тех лет ясно, что любую уголовщину можно было повесить на любого, – например, приписать престарелому профессору изнасилование ассистентки, как было на процессе правотроцкистского блока.)
Я опасалась, что эту грязь могли протащить и в дело. Но этого не случилось. Те немногие странички, что лежали передо мной, оказались абсолютно неуязвимы. Это было классическое липовое дело 58‑й статьи по агитации и пропаганде, и я поразилась стойкости, с которой моя бедная мама противостояла этому бреду. Конечно, ее не пытали, не истязали, как Ариадну. Ее мучили ночными допросами, запугивали арестом Б.Л., очными ставками. Да и терзала мысль, что брошены на произвол судьбы двое маленьких детей и беспомощные старики – дед с бабкой, что арестован любимый человек. Но она упрямо сопротивлялась следователю, отвергала идиотские обвинения. Только после больницы (о чем есть запись в деле), после того страшного, что с ней случилось в морге, она начинает немного уступать и признаётся, «что необъективно высоко» оценивала творчество Пастернака.
Впрочем, пусть читатель судит сам – вот протокольные записи. Опущено второстепенное – показания некоторых свидетелей, изобличавших ее в клевете на советский строй. Что значат эти «изобличения», сегодня знает каждый. И как они добывались – тоже знает.
На этих допросах мама, конечно, победила – ни одно ее слово не могло лечь в «дело Пастернака», использоваться против него.