

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Интересное:
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
…У кого сколько хватит сил. Душевного оружия, полученного в детстве, Ирине, наверное, хватит для борьбы с любой средой…
Не знаю, хватило бы мне моего душевного оружия, не приди мне (и не только мне!) на помощь человек, о котором уже не раз поминалось на этих страницах. Это моя учительница, а впоследствии подруга Инна Малинкович, о которой та же Ариадна писала: «Она по‑настоящему хороший человек, даже без прилагательного: по‑настоящему человек».
На праздничном утреннике в школе девятилетняя девочка страстно читает стихи Маяковского:
Я земной шар чуть не весь обошел –
И жизнь хороша,
И жить хорошо!
А в нашей буче –
Боевой, кипучей –
Итого лучше!
На ней белый фартук и красный пионерский галстук. Это моя подруга Галя. Мы с ней сидим на одной парте с первого класса. Сегодня ночью ее бабушку, старого члена партии большевиков, еще с дореволюционных времен, увезли в черном «воронке». Галя обожает бабушку, однако не сомневается ни секунды: бабушка – враг. Уже давно она позволяет себе скептически усмехаться при имени Сталина.
Дети с восторгом аплодируют. В углу зала, на маленькой табуретке, я вижу свою новую учительницу английского языка, приткнувшуюся в последних рядах. Издалека я ловлю ее страдающий взгляд. Мы обе любим Галю – это на редкость одаренный яркий ребенок; бывают такие в классе: зарвавшийся молодой учитель задает вопросы уже почти по университетской программе, и всегда взметнувшаяся Галина рука: «Меня, меня спросите!»
Идет урок. Мы снова сидим с Галей рядом. Я стараюсь не поднимать головы, скрывая и свою недавнюю беду: несколько месяцев назад арестовали маму.
К таким детям пришла Инна в начале пятидесятых годов. Эту самую школу в Потаповском переулке сама она окончила с золотой медалью в 1947 году. И вот после университета вернулась туда же.
|
|
Наверное, в другие времена ее ждала бы аспирантура и университетская карьера. Но в жуткие пятидесятые, когда, как говорил Леонид Ефимович Пинский, ее учитель[42], «маразм крепчал», школа была единственным прибежищем для интеллигентной еврейской девушки. Однако судьба не ошиблась, облюбовав ей именно это поприще. Дети оказались ее призванием, страстью, жизнью. В них она осуществилась, начиная с нас, с косичками по циркуляру, в черных форменных фартучках, смирно сидевших под портретом Сталина, и кончая уже последними, израильскими, так же любившими ее, как и мы, и проводившими в декабре 1992 года на иерусалимское кладбище.
У нее был дар располагать детей. И, как всякий дар, он необъясним. Наверное, она сама была во многом ребенком (как страдала она всю жизнь от своей «невзрослости» – видно по ее письмам), и легче всего ей было с детьми.
У этих детей были непростые судьбы. Об арестованных родителях не говорилось. Как выяснилось потом, спустя много лет, – не было семьи без трагедии, но мы были пионерками звена имени Зои и Шуры и с упоением читали на утренниках «Стихи о советском паспорте». У меня были арестованы бабушка, мама, дед был выгнан с работы как сын священника, в доме ненавидели Сталина, я росла под влиянием Б. Л. Пастернака, близкого друга нашей семьи, – и, однако, мне страшно хотелось быть как все, я страдала от своего изгойства, скрывала, изворачивалась.
Чтобы расковать этих детей, разговорить их, Инна сразу организовала кружок. Это был в буквальном смысле «кружок» – сидели вокруг нее и смотрели ей в рот – английского языка. Там мы читали и переводили Байрона, Китса, Шелли, даже Шекспира (а кто умел – и стихами! Я стихами!). И вот однажды на занятия этого кружка я принесла миниатюрное оксфордское издание Шелли с дарственной надписью Б. Л. Пастернака мне.
|
|
С этой минуты, с этого движения – когда Инна открыла книжечку и увидела надпись – и началась наша дружба, прошедшая через всю жизнь.
– Ого, – сказала Инна, и я почувствовала, как она волнуется. – Какие у вас друзья!
– А что? – ответила я почти с вызовом. – Хорошие!
– Да, очень хорошие!
Это был уже диалог посвященных. В то время моя мама за эту дружбу уже который год была в лагере, Борис Леонидович был предметом оголтелой травли, и я, признаваясь своей учительнице в подобном знакомстве, открывала тайный кусок своей личной жизни, за которую боялась. Но она одобрила меня, и с этой минуты кончилось мое детское одиночество.
Я часто провожала ее после кружка к ней домой в Фурманный переулок, где она жила. Мы шли вдоль Чистых прудов, мимо катка, над которым заливалась Шульженко, горели заснеженные фонари, катилась веселая, для меня тогда недосягаемая жизнь, и она наставительно допрашивала: «А какие стихи вы любите? Гумилева? Светлова? Ну, это все побрякушки!»
А потом в ее комнате, в которую мы проходили мимо спящих за ширмами родичей, комнате, которая стала моим вторым домом и где я помню каждый предмет, она читала мне другие, «настоящие» – Тютчева, Баратынского, Батюшкова.
С ее голоса я узнала эту поэзию. Ее глазами увидела живопись – сначала в скромных черно‑белых альбомчиках, потом в музеях. С ее голоса узнала музыку. Телефона у нас в те времена не было, и обычно я звонила ей из автомата у Покровских ворот, можно ли зайти. «Сегодня обязательно, надо прослушать Глюка, мне на два дня одолжили пластинку». С техникой она всегда была не в ладах, поэтому эти прослушивания часто превращались в отчаянную борьбу с проигрывателем, и, если она в этой борьбе побеждала, из хриплого «Аккорда» лились божественные звуки. «Как в каждой идеально классической опере самая лучшая часть – средняя, а в ней – центральная мелодия, здесь это песня флейты». Слушали песню флейты. За большим окном‑фонарем темнело, начинал медленно падать тяжелый, серый снег. Кудрявый красавец – молодой Блок с бантом (карандашная копия) – витал между окном и книжным шкафом, благословляя белокрылый пожар за окном…
– Да, я тоже очень люблю, когда идет снег. Так устаешь от всяких видов человеческой деятельности, так радуешься, что вот происходит что‑то не зависящее от человека – снег, дождь, метель…
|
|
Мне нравился ее способ видеть мир, формулировать, оценивать людей и события, я впитывала ее словечки, характеристики, повторяла ее мнения. На какое‑то время я превратилась в маленькую обезьяну, копировала ее манеру говорить, даже почерк. И что же, я совсем не жалею об этом, ведь «час ученичества, он в жизни каждой торжественно неотвратим…».
Она любила определение Сент‑Экзюпери «человек – это узел связей» и сумела связать узлом вокруг себя столько разных детских судеб! Прошло немного времени, и уже не одна я затаив дыхание слушала в сумерках «Песню флейты» – комната постепенно наполнялась, дети были разные, с разными склонностями, но все мы понимали, что здесь, в этих стенах, нам приоткроется дверца в иной мир, что здесь нас научат плыть против течения… Нашу компанию называли по‑разному. Ариадна Сергеевна Эфрон – «Тимур и его команда», кто‑то – «Ученики Чародея», кто‑то, кажется мой брат, придумал милое и нейтральное – «ушатики», а все вместе – «Ушатия». Ну что‑то вроде Швамбрании.
Когда спустя много лет, уже в Иерусалиме, сравнительно незадолго до смерти, она вновь вернулась к интересам своей молодости, то ее последним «русским вздохом» стала Цветаева. Творчество Цветаевой, благодаря близости ее с дочерью поэта, Ариадной Сергеевной, вообще занимало особое место в ее духовной жизни. Для своей же итоговой работы она выбрала поэму «Крысолов». И, может быть, не последнюю роль сыграла здесь и сама тема поэмы – тема «увода», в данном случае – детей, вырывания их из привычного комфортного русла, из патерналистского лона государства, школы, семьи…
Может быть не отдавая себе в этом отчета, чувствовала и она себя таким же крысоловом, дудочником с Фурманного переулка – ловцом детских душ, и с помощью той же флейты – искусства – вырывала нас из Гамельна (о, родители даже очень ревновали!), объединяла, растолковывала, манила… Можно сказать, что из большевистского Гамельна она нас вывела. И этот «увод» был, конечно, повторением ее собственного пути, по которому увел ее другой учитель – Л. Е. Пинский, недаром первый вариант своей работы она посвятила ему такими словами: «Л. Е. Пинскому, учителю и сердцелову».
|
|
В комнате в Фурманном образовалась своя детская «Афинская академия». Сбившись в кружок (мы именно «сбивались» тогда, как овцы в степи в непогоду), мы внимали нашему «ушатому учителю», который по своим студенческим конспектам лекций Пинского вводил нас в мир европейской литературы. И хотя это было лишь отражением, копией, пересказом подлинного его курса, все, что я знаю, на что ссылаюсь, к чему обращаюсь в европейской литературе, до сих пор оттуда, из этих конспектов, с ее голоса. Имя Леонида Ефимовича никогда не называлось, говорилось «мэтр», и эта обстановка тайны, далекого присутствия какого‑то очень большого авторитета (то, что он арестован, мы не знали, конечно), разумеется, удесятеряла и внимание, и благоговение.
Время шло, наступила «оттепель», вернулся Леонид Ефимович и предстал перед нами во плоти – в университете он прочитал несколько популярных лекций, помню одну – об эстетике Возрождения. Вернулась из лагеря мама, Б. Л. Пастернак стал снова бывать у нас в доме, и роли наши с Инной переменились – ее тянуло в наш дом, где было в ту пору много интересных людей, и, главное, Б. Л. Пастернак, его новые стихи, прямо из‑под пера читавшийся роман. В нашем доме Инна познакомилась и с Ариадной Сергеевной Эфрон, только что вернувшейся из туруханской ссылки. Обаяние Али, какая‑то спокойная сила, идущая от нее, заворожили мою бедную учительницу. И любовь ее к поэзии Марины Цветаевой началась тогда с обожания цветаевской породы, с изумления перед явленной одаренностью, сквозившей в каждом Алином жесте. Эту любовь пронесла она через всю жизнь, до смерти на Иерусалимских холмах.
Первая же их встреча была скорее отталкиванием – это произошло у нас в Потаповском во время нобелевской травли Б. Л. Пастернака, когда сочинялось знаменитое письмо Хрущеву от имени Б.Л. «Это не человек, а железка какая‑то», – говорила мне потом о ней Инна. А Аля в свою очередь с обычным ее юмором: «Ну, жива учительша‑то твоя, что весь вечер жестокие слезы лила?»
30 мая 1960 года умер Борис Леонидович. Со всей страстной самоотверженностью была с нами Аля в эти дни. Вот мы возвращаемся из Переделкина, выходим из машины, поддерживаем маму, идем через двор к подъезду. Во дворе Инна с ребятами из своего класса (она их классный руководитель) сажает тополя. Это субботник. Она держит в руке тополиную веточку, пахнет свежевырытой землей, веселые молодые лица вокруг. Я подхожу к ней и говорю, что все, все кончено, мы только что из Переделкина. Она роняет веточку, садится прямо на землю и плачет. Кто‑то из девочек утешает ее, обнимает за плечи, вытирает платком ей слезы. Мы входим в подъезд.
|
|
А тополя выросли. И 30 мая они празднуют свой юбилей – в этом году им тридцать три года. Никто не подстригает их в зачумленном, заброшенном городе, и они вымахали до шестого этажа, и каждую весну наш балкон был усыпан их пухом – тем самым «валящим снегом с ног…».
Через два месяца после смерти Б. Л. Пастернака нас с мамой арестовали. Это был настоящий разгром, расправа, «избиение младенцев». Вывозили рукописи, книги, мебель, конфисковали комнату. На свободе остался мой младший брат. Что могли мы ожидать от 18‑летнего мальчика, раздавленного обрушившейся катастрофой? Но мы получали все, что разрешалось заключенным, – адвокатов, посылки, передачи, письма, свидания. За всем этим стояла Инна, ее самоотверженность, ее поистине героические усилия. «Ушатия» сплотилась – это было уже не слушание полузапрещенных лекций о Шекспире, это были тяжелые ящики с посылками, раздобывание денег для нас, апелляции в прокуратуру, обивание порогов разных ГУМЗов, выбивание свиданий и дополнительных передач. А я капризничала, получив в посылке вздувшуюся банку с клубничным компотом или сгнивший зеленый лук – что, они не соображают, лук и здесь можно купить! Опять эти резиновые сапоги на слона! А «они» ночей не спали, чтобы у мена были витамины, сухие ноги и неотмороженный нос.
И письма Инна писала остроумные, веселые, талантливые, только кончались они часто любимым, пушкинским: «Печален я, со мною друга нет…»
В это‑то время ее приняла и накрепко полюбила Аля. Она полюбила в ней все – и смешную хрупкую внешность, и очки («смотрит из‑под своих очков, а сам такой верный‑верный воробушек»). «Верный воробушек» – так она часто ее называла. «Инка – трогательная, трепетная, одна душа да очки… А вообще таких друзей, как Инка, нет на белом свете, это последний представитель вымершей породы бронтозавров от дружбы. Прелесть, что за человек». «Вчера выходила замуж их хозяйка (дело было в Тарусе летом). После свадьбы учитель с учеником (Инна с Наной Фрейдиной) на бровях пришли мне помогать воду таскать – наносили полную бочку, вот какие тимуровцы. Инка – по‑настоящему хороший человек, даже без прилагательного: по‑настоящему человек». Это все отрывки из писем Ариадны ко мне в лагерь.
А вот что писал «воробушек», узнав об Алиной смерти, уже из Израиля: «…и я осиротела, как будто лучшую часть меня у меня забрали. Хоть и не виделись мы столько лет, а как‑то все зналось, что есть Аля, как будто другой мир, с другими людьми и другими ценностями. Теперь таких нет. И жизнь ее трагическая, и смерть бессмысленная, как за тридевять земель, где и большая часть жизни ее прошла. Не хочется „разбираться“, хочется плакать. Из всех моих „любвей“ – мужских и женских – она самая незаинтересованная с моей стороны и принадлежит еще молодости, когда так любилось, как никогда после. Может, поэтому для меня Аля – всегда прекрасна и ни в чем не виновата». Об Але она не забывала никогда и незадолго до смерти начала писать о ней воспоминания. Они остались незаконченными, и хотя это неотстоявшийся, «сырой» материал, в них так сказалась сама Инна, ее способность любить, ее верность.
В 1974 году Инна эмигрировала в Израиль. Уехала вместе с мужем, мечтавшим об «исторической родине». После ее отъезда мы осиротели, «Ушатия» распалась. И я могла бы сказать ее словами: «…как будто лучшую часть меня у меня отняли». Приживалась она на новом месте трудно. Ее письма, особенно первые, были просто отчаянными. Она тосковала по оставленным друзьям, языку, природе, по, как она писала, «даже мягкой траве». Она тяжело заболела, муж ее оставил. И в эти тяжелейшие дни на помощь ей пришла религиозная община. Эти люди, ее новые друзья, ее новая семья, буквально спасли ее от смерти.
Так началась ее новая, последняя жизнь в этой общине. Она соблюдала субботы, молилась, варила и ела что положено. Она нашла в себе силы полюбить свою новую жизнь, оценить людей, окруживших ее теплом и заботой. Она снова вернулась к детям – это были религиозные еврейские мальчики, которых она обучала английскому. Они привозили ей на велосипедах к субботе пироги и фаршированную рыбу, помогали убирать дом. Их мамы возили ее по врачам, приглашали на субботний кидуш. Они ее и похоронили. Это кладбище Гават Шауль, где нет привычных для России деревьев, травы, скамеечек, всей той трогательной пестроты и уюта православных кладбищ, по которым мы так часто гуляли с ней когда‑то. И цветы не положены, друзья и родные кладут по камушку на надгробие. Так принято в этой стране. И могилы все одинаковые, и надписи, конечно, на иврите, справа налево… Мне часто снится сон, что я на этом кладбище и не знаю, куда положить свой камушек, – не могу прочитать надпись, и все могилы на одно лицо…
Но те тополя, что сажала она с детьми 30 мая в московском переулке, – это тоже память о ней, ее русское надгробье. И мраморная доска в вестибюле школы, где прошло почти тридцать лет ее жизни – ее учили, она учила. Среди окончивших школу с золотой медалью, среди первых, – ее имя, золотом по мрамору, по‑русски. Когда я повела своего маленького сына в первый класс этой же школы, забыла и о звонке на урок – все стояла и трогала эти буквы…
Мы увиделись с Инной через двенадцать лет после ее отъезда из России. Я переехала в Париж, и первым моим заграничным путешествием стал Израиль. Я уже знала, что она тяжело больна, ходит с палочкой, живет одиноко, бедно. Но по письмам чувствовала, что «жив курилка», что ее юмор, обаяние, жизнестойкость победили и что это будет счастливейшая встреча. Так оно и оказалось. Я думала, что уже никогда не увижу ее, и вдруг – Лод, пыльные пальмы, маленький южный аэродром, словно Сухуми какой‑нибудь, и моя постаревшая, но веселая учительница машет своей клюкой и плачет от радости.
А ее квартира! Две комнатки, зажатые между «фалафелем», где жарились лепешки для ешиботников, и гаражом, где все время чинились рычащие мотоциклы – уф! А между всем этим – филиал Фурманного, та самая комната, где я помнила каждый предмет, – ее книги, аскетический быт, пейзажи на стенах (вот только Блока с бантом нет!), знакомый сундук с посудой, столик из «Детского мира», на котором все тот же бюстик Достоевского. Ее дух, ее присутствие в каждом предмете, ее победа над материей. Мы пили чай по‑московски, ели рис, привезенный мальчиками с пейсами на велосипеде, и замолкали только тогда, когда надо было жевать или глотать. Так прошло пять дней, и на прощание я ей пела: «Ты прежнею Татьяной стала!», а она хохотала, как только она одна умела – так заразительно, так от души, так благодарно.
Хотя передвигалась она с трудом, с палочкой, мы много гуляли. Иерусалим меня заворожил. Вечером, когда спадала жара, мы сидели в парке недалеко от ее дома, откуда открывался вид, которому нет равного в мире по красоте и какой‑то щемящей близости – ведь и не была здесь никогда, а все узнаваемо. Под нами проходило шоссе, оно заполнялось огнями, старый город, с его подсвеченными куполами, был за этим шоссе. Становилось даже прохладно, и начинали пахнуть ошалевшие за день незнакомые цветы. А она говорила, говорила, все хотела выговорить заветное, наболевшее, с которым трудно было жить, – то чувство, которое мучает столь многих, и изживается – если изживается – годами: о своем раздвоении.
– Я – жертва межкультурья, двукультурья, как англичане говорят: культурный шизофреник. От одной отстала – к другой не пристала, а человек я – не крови, а культуры.
– Да, сердце мое разрывается между Россией и Израилем, но не променяю я этот конфликт на комфортабельную «этническую идентификацию». Да, у меня сплошная дуальность и дисгармония. Но главное – не поддаваться исторической волне фундаментализма, плыть против течения, как когда‑то плыли мы против советских мифов…
– Так легко любить страну (и человека!) издалека! Так влюбляются в Израиль мои хорошие умные московские друзья, приезжающие сюда на время. Это романтическая любовь. Может, и у меня к России такая же? А Израиль я люблю трудной любовью.
– Я достаточно заплатила за этот образ мыслей, когда выбрала свободу, не в силах взять на себя ответственность. Думала, что жизнь здесь как в России плюс свобода. А оказалось – свобода минус все то, что мы любили в России.
– Тем не менее я уже вросла в эту страну, и хотя я одинока здесь, но не изолирована – понимаешь разницу? Израильское государство – это я и есть, тысячи таких, как я, живущих своей частной жизнью. Слава богу, государство у нас не тоталитарное, не сует нос в мою жизнь. А вам в России невдомек, что мой образ жизни и есть лучшее доказательство и оправдание государства Израиль!
Она много рассказывала мне о своих новых друзьях – о Пнине, Мальке, Хане и других, об их невероятных судьбах, стойкости и жизнелюбии. Некоторые чудом уцелели в лагерях смерти.
– Я все чаще думаю, какое богатство талантов, даже гениев (Эйнштейн, Кафка, Малер, у нас – Пастернак, может быть Мандельштам) евреи производят при соприкосновении с другими народами и культурами. Из трения высекается искра особой, исключительной одаренности, а также пламя инквизиции, печей Освенцима и лагерных костров.
Вечный, великий, загадочный город лежал под нами, внизу, шумел ночной туристской жизнью. Вот русло высохшего Кедрона, над ним – Масличная гора, вот, под самыми нашими ногами, монастырь Креста, оливковая роща, по легенде, посаженная Лотом. А дальше, за сверкающим огнями кнессетом, видным отовсюду, – мемориал Яд ва Шем с его никогда не гаснущими шестью миллионами свечек…
– Да, может быть, это и так. Но стоит ли платить за эти гениальные искры такими кострами? Давайте лучше жить без Малера и Кафки. Хватит и той искры, что высекается при нашем с вами соприкосновении.
Из этой нашей «искры» родилось ее страстное желание работать, писать, подытожить свой опыт и все те знания, что получила она в России. Историко‑компаративный метод, воспринятый ею от Пинского, приложила она к текстам, по разным причинам особенно близким ей, – к поэзии Цветаевой. В 1992 году готовился юбилей поэта, и Инна хотела завершить свою работу к этой дате и поехать в Москву. А. Саакянц, наш старый и верный друг, включила ее в список выступавших, но этому выступлению не суждено было состояться – у нее уже не было сил. А сама ее работа, ввиду большого объема, странствовала из журнала в журнал, пока наконец не появилась (лишь одна, последняя глава из нее) в журнале «Литературное обозрение» (1992. № 11–12). Через неделю после ее смерти!
Она обратилась к «Крысолову» Цветаевой. Не только потому, что тема, как я уже говорила, таинственно притягивала ее, но и потому, что это был уже хорошо знакомый ей материал – когда в 1963 году готовилось издание Марины Цветаевой в «Библиотеке поэта», Ариадна Сергеевна, перегруженная работой и, как обычно, опаздывавшая к сроку, попросила Инну помочь в работе над комментариями, и Инна с фанатичной добросовестностью просиживала в библиотеках в поисках толкований. И вот теперь, потянув за ниточку, она начала разматывать клубок дальше: как трансформировалась легенда на протяжении веков, что манило в ней столь разных поэтов?
Она искала емкую тему, которая впитала бы как можно больше информации, которая позволила бы ей мобилизовать все свои знания. Как скрупулезно изучала она источники, сколько вариантов отбросила!
«Ведь ты вытащила меня из смертной ямы, – писала она, – я должна докончить. Это мой долг – перед Алей, перед Мариной, перед Леонидом Ефимовичем, перед Россией». Она ходила в Британскую библиотеку в Иерусалиме, в Лондоне – в библиотеку Национального музея, выписывала из Германии варианты старинных легенд, в подлиннике читала Гёте, Гейне, Зимрока, Юлиуса Вольфа, сама переводила стихи для главы о Браунинге, не доверяя Маршаку, перечитала все, появлявшееся о Цветаевой по‑русски. Но уже не простой ученицей, пережевывающей мысли своего любимого учителя, выступает она в этой работе. В ней много личного, выстраданного, и по тому, как расставлены акценты, становится ясной и ее собственная позиция, которая шире литературных оценок.
Первая глава – о «Крысолове» Гёте. «Союзники у меня – только в прошлом. Недавно обрела нового – Гёте. Как он презирал этих дураков – романтиков‑патриотов! Как говорил, кажется, Герцен, предпочитаю ошибаться вместе с Гёте, чем быть правой со всей этой оравой фундаменталистов». «По‑моему, Гёте мне удался лучше всего. Есть даже маленькое открытие: кажется мне, что песенка Папагено из моцартовской „Волшебной флейты“ pendant к гётевской песенке Крысолова.
Сравнила тексты – поразительное совпадение формы и содержания».
После классического Крысолова Гёте, романтического – Зимрока и «детского» – Браунинга она обратилась к «голодным крысам» Гейне. Гейне – ее старая любовь еще с юности. «Медленно пишу о Гейне. Перечла его и чувствую к нему, как писал Блок, „странную близость“. Ну, для меня не такую уж странную, ибо – еврей… А почему пришелся он так ко двору в России? Всех захватывала его ирония! Очень уж он актуальный. Кажется, до сих пор я не знаю об общественном развитии больше, чем он!»
В Гейне ее привлекала не только ирония (а уж чувства юмора, умения даже зло вышучивать самые «святые» вещи у моей учительницы хватало!). Его трагическая жизнь, болезнь, вынужденная отрезанность от внешнего мира – и при этом умение сохранить себя, отстоять свою личность, свое право быть самим собой – над этой загадкой Гейне билась она последние годы, проецируя на его жизнь свой горький опыт. Многое, что писала она о Гейне, кажется написанным о самой себе. «Я читаю и зачитываюсь Гейне. Вот был умница! И эмигрант! И 8 лет в „матрацной могиле“! В эти годы он особенно поумнел: перестал, как он пишет, пасти свиней у гегельянцев и – блудный сын – выучился смирению. Или пытался выучиться. Никогда не врал перед собой. В судьбе моего сюжета – это случай особый. Крысы без крысолова. Тынянов в своем переводе назвал крыс „кагалом“. У Гейне этого и в помине нет. Евреи для него – синоним торгашей и банкиров, никак не революционеров. А в последние годы и вообще – читал Библию и больше всего любил Моисея!»
О месте Гейне в ее жизни она могла бы сказать словами Цветаевой: «Генриха Гейне – нежно люблю, насмешливо люблю – мой союзник во всех высотах и низинах, если таковые есть». В своей «матрацной могиле» в квартирке, зажатой между «фалафелем» и гаражом, она продолжала работать почти до самого конца. Иногда бывали перерывы, когда дул из пустыни горячий хамсин, поднималось давление, она на время теряла зрение. Но – «Ванька‑встанька», «Феникс», как называла ее Ариадна, – перемогала недуг и снова возвращалась к своим «милым спутникам». Она много думала над заглавием последней главы о «Крысолове» Цветаевой – хотела перефразировать Мандельштама: «…и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет…» Я предложила ей скомпилировать: «Своя чужая песнь».
«Свою главу о МЦ я писала запоем, как она сама своего „Крысолова“. Не знаю, как читателям, а мне в процессе статьи уяснилось гениальное письмо Пастернака о поэме. Даже стыдно писать после него. Книга („Переписка Бориса Пастернака“, я послала ей из Парижа. – И.Е.) у меня, и такая прекрасная, поддерживает в часы ночных бдений. Не говорю уж о письме Марине о Крысолове. Если бы я могла понять его во всей его мудрости, вышла бы хорошая глава о Цветаевой. Только теперь, когда все мысли о цветаевском Крысолове, обнаружила, что в некоторых пунктах – о лейтмотивах, о слове как организующем начале – додумалась до похожих идей».
То, что Инна до конца дней оставалась открытой, живой, доказывает ее новое отношение к Цветаевой. Выбор темы книги был сделан по любви, но второго романа с Цветаевой у нее не получилось. Если погружение в Гёте и Гейне она пережила как настоящие влюбленности, с Цветаевой она боролась, не принимала, оспаривала. В Гёте и Гейне она нашла союзников – в равнодушии первого к «мелким мировым дрязгам», в стоицизме второго, в его искусстве «не врать себе». Но между ее полудетским обожанием Марины и возвращением к ее поэзии в последние годы пролегла целая тяжелейшая жизнь, и вынесла она из этой борьбы терпимость и жизнелюбие – качества, прямо скажем, не из репертуара Цветаевой. «МЦ всегда отличала жизнебоязнь, – писала она в одном из „итоговых“ писем – работа шла к концу, – об этом где‑то в письмах Эфрона есть. А у Пастернака всегда была жизнеотвага. Помнишь? „И это тянет нас друг к другу“. Отсюда очень многое – и повышенное чувство благодарности жизни и людям, и отсутствие чувства правоты, которое особенно дорого в наше время, когда все носятся со своей правотой и обвиняют друг друга. Я недавно думала, как вколачивает МЦ свои „формулы“, а в результате – лучшие стихи это те, где в конце концов оказывается, как в „Тоске по родине“, что „формула“ – не права…»
Да, второй ее роман с Цветаевой не состоялся, она видела ее теперь во многом другими глазами, «вне романтической легенды», жизнь скорректировала угол зрения.
В последний раз мы виделись с ней в Париже осенью 1989 года. Мы сидели в Люксембургском саду около прелестного фонтана Медичи, усыпанного золотыми сентябрьскими листьями, и вспоминали нашу московскую молодость, Чистые пруды, Фурманный, поездки в Тарусу, «Ушатию», Ариадну… За решеткой сада веселился тот самый Париж, который с такой радостью оставила Ариадна пятьдесят лет назад, рванувшись навстречу своей мученической судьбе.
– Да, она отказалась от жизни, после лагеря это было похоже на затянувшееся умирание. Но я слишком хорошо знаю, каково подчинить все идее выживания. Я вдруг стала замечать, как вульгарна эта пресловутая жизнестойкость, как вообще пошла жизнь без мысли о смерти. Помнишь Введенского? «На смерть, на смерть держи равненье, поэт и всадник бедный!»
В сущности, мы разговаривали с ней всю жизнь. И в зимних сумерках, когда я провожала ее после уроков вдоль Чистых прудов, и в ее комнате с окном‑фонарем, и в бесконечных письмах – сначала в мое изгнание, в лагерь, потом к ней в эмиграцию, в Израиль, и во время редких встреч последних лет, – все это был один нескончаемый диалог. И теперь, когда уже нет на свете моего бессменного собеседника, остается лишь благодарить судьбу, что она послала мне его в начале жизни, ибо «любить с силой, равной квадрату дистанции, – дело наших сердец, пока мы дети».
1993, Париж
И. Емельянова
Парижские этюды
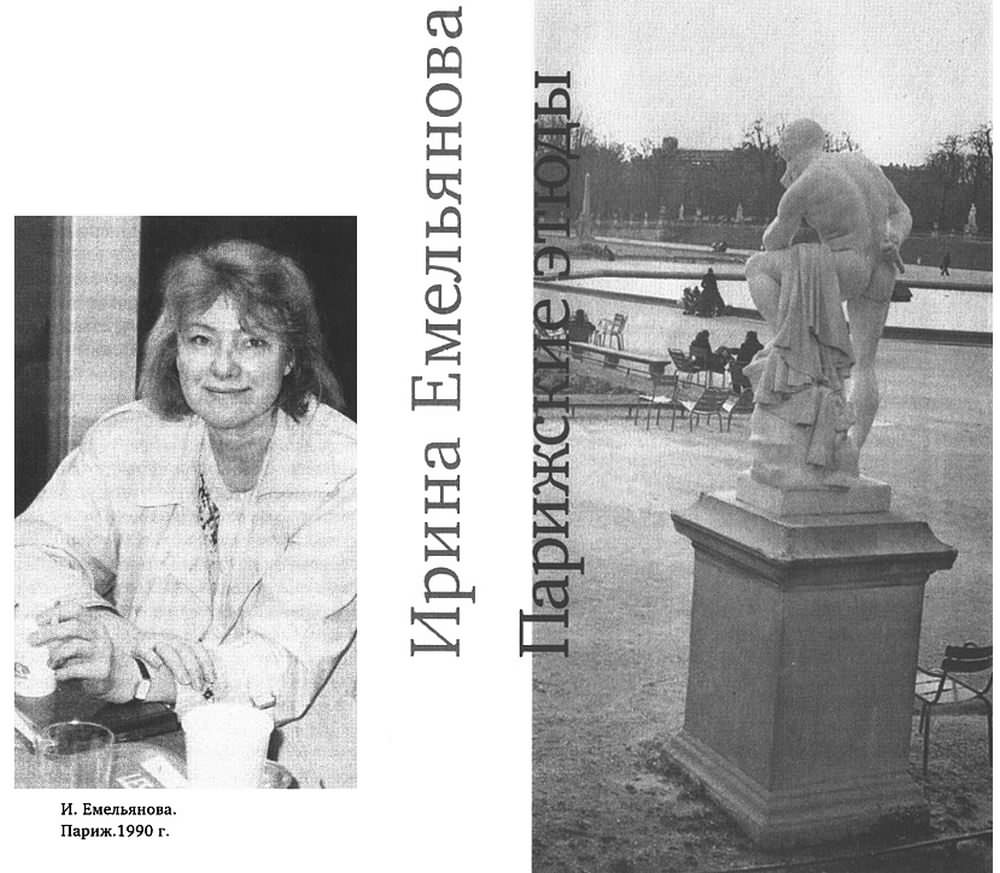
ПРИЮТ НА ПЛОЩАДИ ВЬОЛЕ
В тот самый Париж, который с такой радостью оставила Ариадна Сергеевна в 1937 году, я приехала через пятьдесят лет. И здесь судьба подарила мне еще одну встречу с человеком, не оставившим следа ни в литературе, ни в науке, ни в искусстве (знаменитое тютчевское – о русской женщине – «прошла как облак дыма»), а просто сумевшим в тяжелейших испытаниях эмиграции, нищеты, потерь сохранить свои «прирожденные заслуги» – благородство породы, изящество облика, аристократизм, бессребреничество, насмешливый (и над собой в первую очередь!) склад ума, такую обаятельную русскую «надбытность», безвозвратно ушедший наш прекрасный язык… Я говорю о Марианне Львовне Сувчинской, дочери философа Карсавина, племяннице знаменитой балерины. Той, что девочкой вместе с родными отплыла от Николаевского моста в Петербурге на последнем пароходе, когда неблагодарная родина вышвыривала людей, составлявших ее славу… Это было 16 ноября 1922 года. Во Франции она стала женой Петра Петровича Сувчинского – блестящего публициста, издателя, музыканта. Когда я пришла в их дом на улице Сен‑Санса, хозяина уже не было в живых. С ним свел дружбу ранее меня приехавший во Францию мой муж Вадим Козовой, поэзией которого Сувчинский восхищался. Я же подружилась с Марианной – Марьяной, как мы называли ее с легкой руки Вадима, воспевшего ее в своем тексте «Блошка Марьянушка». Нашей дружбе было всего несколько лет – она зацепила меня только краешком своей судьбы, но благодаря этому мне есть куда оглянуться. Год перед смертью она провела в доме для престарелых, и, снаряжая ее в этот последний путь, разбирая оставшиеся письма и бумаги, я нашла несколько конвертов, надписанных когда‑то много‑много лет назад моей рукой: я отправляла из Москвы письма и книги на эту улицу Сен‑Санс от Б. Л. Пастернака – ведь я была «почтмейстером». И протянулась ниточка…
Итак, ее последний год.
Это Пятнадцатый район, где селилась горемычная русская эмиграция первой волны. Метро «Шарль Мишель». За спиной – гигантские супермаркеты, а улица, ведущая к площади (она маленькая, как почти все площади Парижа), узкая. Со старыми домами, булочными, ресторанчиками. У метро продают цветы. Из стоящих прямо на земле ведер выбираю один. Поскольку на дворе весна, пусть это будет тюльпан. С цветком в руках иду по улице Антрепренер, захожу в угловую булочную, где покупаю одно пирожное. Без крема, так как в прошлый мой приход она размазала его по халатику, и Франсуаза, медсестра, долго оттирала пеструю ткань.
У входа в приют на скамейках сидят старушки – те, кому дано «право на выход». У каждой на плечике приколот бадж – с именем и фамилией. Марьяне сначала было тоже дано такое право, а потом, когда она ушла в неизвестном направлении на какой‑то якобы автобус, которого не нашла («Представляете, душка? Здесь нет ни автобусов, ни метро. Что это за город?»), ее этого права лишили. Старушки чистенькие, даже завитые, у некоторых собачки, и щебечут о чем‑то, и улыбаются в пространство.
«Ансельм Пайен», приют для престарелых. В холле внизу его портрет – серьезный господин, с усами и в галстуке. Каждый раз боязливо взглядываю на милую служительницу за стойкой: можно ли подниматься, жива ли?
– А, вы к русской даме? Марианна? Пятый этаж, подождите лифта.
Сначала Марьяна была на первом, в отдельной комнате (думала, что она в отеле), был даже уют: лампа из дома, приемник, замечательная фотография отца – тонкое, одухотворенное лицо, в изящных пальцах дымящаяся папироса. В первое время она по‑хозяйски распоряжалась: «Садитесь сюда, сейчас нам принесут чаю. Это очень неплохой отель. Но почему‑то одни старухи!» Однако беспамятство наступало так быстро, так часто стала она ночью уходить на свой «автобус», звонить Пете и маме по ночам, отвечать на все вопросы только по‑русски, что доглядывать за ней стало трудно. Еще на той неделе я видела ее, уходя, в окне первого этажа, она пыталась через стекло накормить голубей и уже забыла обо мне, хотя я и кричала, и махала руками…
И вот сегодня она уже на пятом, где пребывают те, для которых нет больше ни времени, ни места, ни «действия»… От которых отвернулась муза памяти, неверная Мнемозина. А может быть, вместо нее они обрели что‑то недоступное нам, что глубже нашего «временного» знания? Как у детей, и вот у них. Впали в детство. А может, это о них: «Скрыл от мудрых и открыл детям и неразумным»?
Лифт останавливается, я выхожу на пятом этаже и оказываюсь в детском саду наоборот, в «миресконца». Это настоящий детский сад – на стене разноцветными фломастерами написано число, день, год, имя святого. Сегодня – «Святая Одиль». Обитатели сидят около телевизора и якобы смотрят его – кто просто сидит, кто привязан к креслу. И когда бы ни пришел – стук ножей и вилок, тарелок, – либо накрывают, либо убирают со стола. Два симпатичных служителя, черный, даже синий Пепе и, как контраст, белый, прозрачный Лоран, со своими черными усиками поразительно похожий на Пруста. Группа, сидящая у телевизора, очень живописна: никто ничего не видит, но все смотрят. Ритмично качает головкой бывшая главная модельерша у Нины Ричи (104 года), сжимает худющие руки серб, все время косясь на свой деревянный чемодан, который он полвека возит с собой, бывшая волоокая красавица напевает… Романс Кремье «Когда умирает любовь», его когда‑то пела Обухова.
Франсуаза, медсестра, прыскает от смеха, указывает на Марьяну: «Остановите ее. Отвинчивает пуговицы. Говорит – таких больше не носят, это немодно». Чтобы отвлечь ее от пуговиц, вынимаю фотографии домашних, она со светским интересом перебирает их, но внимание задерживает только кошка. Смотрит на фотографию моего мужа, благодаря которому мы и познакомились с ней, который не один год бывал у них в доме: «А это кто? Душка, поздравляю, вы вышли замуж!»
Среди своих товарок Марьяна выглядит девочкой‑подростком. Издали она та же, что на фотографиях, любительских фото тридцатых годов. Этот старый альбомчик тоже пока с ней. В юности она увлекалась фотографией и нащелкала целый альбом летних (1929) снимков. Они уже пожелтели, да и формат крохотный, однако можно разглядеть загорелые группы на пляже: мрачная Марина Ивановна Цветаева («Она никогда не улыбалась. Резкая была. А Аля? Насмешничала, но как‑то с надрывом»), Эфрон, семья Андреевых, Лосские. В центре – Лев Платонович Карсавин, красавец, в рубашке с открытым воротом, около него стройная, легкая, в кокетливом купальнике Марьяна. Тут же Аля, Ариадна, грустная, как всегда на фотографиях. И Петр Петрович Сувчинский с женой – не Марьяной! («Душка, Петя был просто Синяя Борода!» Правда, с Марьяной, бывшей моложе его на двадцать лет, он прожил до конца жизни – целых полвека.) Это Золотой берег, Понтайяк, позади океан, сосны… И горя много позади. Но предполагал ли кто‑нибудь из них, какие еще сюрпризы в запасе у судьбы?
Встряхивая коротко подстриженной головкой, она тя
|
|
|

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!