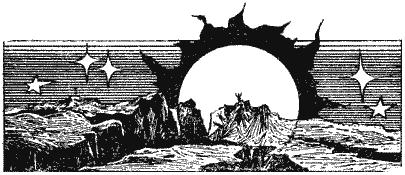Вот что рассказывал мой дед, Леонид Вадимыч Фиников. Я упоминаю его имя, чтобы меня не обвинили в плагиате.
Дед утверждал, будто эта история случилась с отцом его институтского товарища Саввой Саввичем Данилкиным. Однако не исключено, что старик ее выдумал или, еще хуже, где‑нибудь вычитал. В случае чего с претензиями обращайтесь к нему, если, конечно, согласитесь оказаться там, где он сейчас пребывает.
…Шла война.
Савва Саввич Данилкин работал в одном из наркоматов (потом их переименовали в министерства). Освобождался он чаще всего далеко за полночь. И в тот раз тоже отправился домой, когда стрелки часов показывали четверть второго.
Улицы Москвы были темны и пустынны. В лунном свете поблескивали аэростаты воздушного заграждения, похожие на сгустившиеся серебристые облака. Черноту окон крест‑накрест рассекали полоски газетной бумаги,
Савва Саввич вышел на Бульварное кольцо и стал поджидать редкий в ночную пору трамвай – литер «А», или, как предпочитали говорить москвичи, «Аннушку».
Подкатил вагон. Он был почти пуст. В тусклом свете синей лампочки Данилкин разглядел кондуктора – пожилую женщину в платке, ватнике и нитяных перчатках с отрезанными пальцами. Кондуктор распекала единственного пассажира.
– На дармовщину решил прокатиться, а? Меня этими штучками не провести: знаешь, что с сотенного у меня сдачи не наберется! Гони тридцать копеек, понял?!
Пассажир растерянно оправдывался:
– Я не имею… как это сказать по‑русски… ме‑ло‑чи. Я не успел делать размен…
«Иностранец, – догадался Савва Саввич. – Конечно же, иностранец: в таких пальто из шотландки у нас никто не ходит. И чемодан с наклейками, фибровый… А наши фанерные с металлическими уголками…»
Сам Данилкин был одет как многие – в поношенную шинель, из‑под которой виднелась безрукавка на меху (приближалась зима), а за ней полувоенный френч. На голове – не модная, с большими полями, шляпа, как у иностранца, а защитного цвета фуражка, на ногах – порядком разбитые сапоги.
«Нехорошо выходит… – продолжал размышлять Данилкин. – Союзник, может быть, даже дипломат, а кондукторша… Что он подумает?!»
– Дайте два билета, на меня и на него, – он кивнул в сторону иностранца. – И придержите язык, мамаша.
Данилкин протянул билет иностранцу и сел к окну с намерением подремать до своей остановки, не обращая внимания на язвительные реплики о добрячках, которых еще нужно проверить в соответствующем месте, и буржуях, зажавших второй фронт, да еще выгадывающих на трамвайных билетах. Двадцать минут дремы были наслаждением, и Савва Саввич не хотел его лишаться из‑за какой‑то склочной старухи. Он не боялся проспать: тикавшие в мозгу часы действовали безотказно…
Но иностранец уселся рядом.
– Я ваш… как это… дебитор… Обязательно буду погашать долг.
– Пустое, – ответил Данилкин. – Тридцать копеек сейчас не деньги.
Он закрыл глаза и привалился головой к окну. Иностранец же продолжал бубнить, что это долг чести, и если его лишат возможности расплатиться, то ему будет в высшей степени неприятно.
Данилкин молчал. Продремав четверть часа, инстинктивно разомкнул глаза, когда трамвай затормозил на его остановке. Вспомнив в последний момент об иностранце, он обернулся на ступеньке и крикнул:
– Гуд бай, мистер!
Но тот выскочил следом.
– О‑о, вы говорите по‑английски!
Савва Саввич по‑английски не говорил, и вообще ему было не до разговоров. Он устал и хотел спать. Обо всем этом Данилкин не слишком вежливо сообщил иностранцу. Тот замахал руками.
– Я не хочу возлагать бремя… нет, как сказать по‑русски… о‑бре‑ме‑нять. Но нам попутно. О‑о, минута!
На тротуар просочилась полоска света: дежурная булочная была открыта. В ней отоваривали хлебные карточки рабочим вечерней смены – неподалеку виднелась проходная завода.
– Будьте немножко подождать, – умоляюще произнес иностранец, – я хотел разменивать банкнот.
«Нашел дурака, – подумал Данилкин со злостью. – Стану я дожидаться!»
– Идите, – проговорил он вслух. – Только побыстрее, я спешу.
Но иностранец словно разгадал его мысли.
– Там… эта… как верно говорить… о‑че‑редь. Похраните, пожалуйста! Момент!
Вероятно, Данилкин и стоявший у его ног чемодан являли собой столь необычайное зрелище, что вышедший из‑за угла постовой милиционер прямо‑таки остолбенел.
Московская милиция делилась в то время на три характерные части. Первая – мужчины за пятьдесят, не подлежавшие отправке на фронт; вторая – списанные из армии по ранению или контузии; третья и, пожалуй, наибольшая – молодые женщины. Постовой принадлежал к первой. В нем легко было распознать старого солдата. Вероятно, он участвовал еще в русско‑японской войне.
Ветеран продолжил обход, а Савва Саввич переминался с ноги на ногу, постепенно приходя в бешенство.
«Вот и делай людям добро! Меценат! Теперь болтайся тут из‑за тридцати копеек!»
Прошло десять минут, пятнадцать… Из проходной поодиночке и группами выходили рабочие: окончилась смена. И снова появился милиционер. На этот раз он был преисполнен решимости.
– Предъявите документы, гражданин.
Данилкин привычно полез в карман и обмер: бумажник исчез…
«Неужели забыл на столе? А может, дома?» – лихорадочно соображал он, ощупывая карманы.
– Та‑а‑к… Нет, значит, документиков? А в чемоданчике‑то что?
Данилкин начал путано объяснять, что чемодан не его, а иностранца, ехавшего с ним в трамвае и сейчас разменивающего сторублевку.
Милиционер слушал с недоверием.
– Ишь ты, сто рублей! Стибрил чемоданчик‑то, признавайся!
– Да как вы можете! – задохнулся Савва Саввич.
Из булочной вышел иностранец. Данилкин бросился к нему, схватил за рукав клетчатого пальто.
– Не совестно вам! Из‑за тридцати копеек я потерял полчаса, да еще…
– Вы сумасшедший! – на чистейшем русском языке воскликнул иностранец. – Что вам от меня нужно, я вас впервые вижу!
– Пройдемте, гражданин, – сказал милиционер Данилкину.
На краю тротуара близ булочной сохранилась с дореволюционных времен чугунная тумба. Когда‑то извозчики привязывали к ней лошадей. Савва Саввич обхватил одной рукой тумбу, а другой вцепился в иностранца.
– Пойду только вместе с ним!
– Я атташе посольства, – заявил человек в шотландке. – На меня распространяется дипломатический иммунитет. Согласно международному праву дипломата нельзя арестовывать.
Вокруг стали скапливаться люди, выходившие из проходной.
– А может, он и не дипломат вовсе, а шпион!
– Разобраться бы надо, – послышались возгласы.
– Пойдемте и вы, гражданин хороший. Видите, что получается, – попросил милиционер. – Я в этом вашем… мунитете не смыслю. В отделении проверят и быстро вас отпустят. Стоит шуметь‑то?
– Подчиняюсь насилию, – ледяным тоном проговорил дипломат.
За перегородкой в отделении милиции сидел лейтенант с подвязанной на черной косынке рукой.
– Так что, жулика пымал, товарищ начальник, – вытянувшись в струнку, доложил постовой. – Чемодан свистнул у кого‑то и при задержании гражданину подсунуть хотел, да не на того нарвался. А документов при нем, при жулике‑то, нету.
– Ваш паспорт, – обратился лейтенант к иностранцу. – О, дипломат… союзник… А чего вы со вторым фронтом тянете?
– Я могу быть свободен?
– Товарищ лейтенант, – взмолился Данилкин, – уверяю вас, чемодан его. Может, он действительно дипломат, но скорее всего, документы поддельные. Что понадобилось ему ночью на Бульварном кольце? Смотрите, не упустите диверсанта!
Лейтенант заколебался.
Две девушки в темно‑синих беретах и серых гимнастерках, перетянутых ремнями, с любопытством прислушивались.
– Надо открыть чемодан, – предложила одна из них, – и посмотреть, что в нем.
– Ключа‑то нет, – сказал лейтенант. – Взломать что ли?
– Рано взламывать, – возразила девушка‑милиционер. – Если этот тип, – она кивнула на Савву Саввича, – увел чемодан, то ключ остался у владельца. Тогда придется ломать. Но прежде, на всякий случай, надо обыскать гражданина дипломата…
Иностранец возмущенно вскочил.
– Я протестую! Вы ответите за нарушение дипломатической неприкосновенности!
Но тут взорвался лейтенант. Он тоже вскочил и ударил кулаком здоровой руки по столу.
– И отвечу. Терять мне нечего, дальше фронта не пошлют!
У дипломата ключа не нашли, он оказался во внутреннем кармане меховой жилетки Данилкина. Уходя, иностранец оглянулся и – Савва Саввич мог поклясться в этом – подмигнул ему.
«Я пропал…» – подумал Данилкин обреченно.
– А вдруг взорвется? – сказала вторая девушка и отодвинулась.
Лейтенант приложил ухо к чемодану. Внутри было тихо.
– Погаси свет, Маша, – приказал лейтенант.
Он отдернул штору и распахнул окно.
– Глянь‑ка, уже рассвело. Ну что ж, откроем…
Лейтенант вставил ключ в отверстие замка. Раздался музыкальный звон. Все замерли. И вдруг чемодан, вырвавшись, поднялся над столом, а затем ринулся в окно, безвозвратно унося свои содержимое и тайну…
* * *
– Так не годится! – скажет читатель разочарованно. – Оборвали на самом интересном месте. Где же развязка?
– Какая еще развязка? Ах да… Бумажник нашелся, он через дыру в кармане френча провалился за подкладку, и только волнение помешало Данилкину вовремя его обнаружить. Ключ, оказавшийся в жилетке, вообще был от почтового ящика.
– А чемодан, улетевший неизвестно куда, а таинственный иностранец?
– Вот об этом ничего не могу сказать. Конечно, окажись на месте бывшего пехотного лейтенанта Шерлок Холмс или комиссар Мегрэ, они довели бы дело до конца. Но, к счастью, у нас не детектив, а научная фантастика.
– Научная? Бред какой‑то, чудо святого Иоргена!
– О нет! Чудес не бывает. Рассудим с позиций науки. Можно ли утверждать, что вероятность события, описанного дедом Финиковым, теоретически равна нулю? Отнюдь! Не хватает и никогда не хватит статистических данных. Пусть до сих пор никто не видел летающего чемодана, – это еще не означает, что в один прекрасный день, когда сложатся соответствующие условия, о которых мы пока ничего не знаем, какой‑нибудь шальной чемодан не устремится ввысь.
Вспомните известную гипотезу о том, что бесследно исчезнувшие в Бермудском треугольнике корабли не потонули, а унеслись в гиперпространство. Правда, чемодан – не корабль, зато насколько он легче!
Кабалистическое слово
Актовый зал ломился: не каждый день можно услышать Старого Фэма! Ожидали сенсацию. Профессор Ролл Фэмоуз, которого за глаза все называли Старым Фэмом, принадлежал к касте ученых‑затворников: не участвовал в конгрессах и симпозиумах, не давал интервью и вот уже четверть века не читал лекций. Его нечастые публикации содержали максимум информации при минимуме слов. Каждая работа становилась событием. Ее обсуждали, с ней спорили, затем признавали и относили к категории фундаментальных, хрестоматийных, классических.
Всемирную известность принесла Старому Фэму созданная им белконика. Статью с изложением ее канонов Фэмоуз претенциозно назвал: «Белконоид умнее своего творца».
Неудивительно, что шокированные коллеги объявили белконику реакционной лженаукой.
Белконика была поставлена в один ряд с астрологией и алхимией.
Фэмоуз уклонился от полемики. И это еще больше раздразнило его противников. Старый Фэм презрительно молчал – год, другой.
Тем временем белконика говорила сама за себя.
С белконоидами, как фактом, уже ничего нельзя было поделать.
Число сторонников Старого Фэма постепенно возрастало, противники искали пути отступления. Лавинообразно ширился поток белконической литературы. Но в нем не было новых работ Фэмоуза.
Подозревали, что Старый Фэм копит силы, дабы одним махом уничтожить и без того поверженных в уныние противников.
Вот почему предстоящее выступление Фэмоуза вызвало ажиотаж.
«Ну что он еще готовит? – читалось на лицах ученых мужей, сидевших в первых рядах. – Не будет ли подвоха?»
Молодежь, заполнившая галерку, жужжала. Одни явились поглазеть на знаменитого старца. Другие жаждали присутствовать при битве гигантов.
Самые примерные мечтали приобщиться к чужой мудрости.
Аудитория притихла. Быстрой, чуть шаркающей походкой на кафедру вышел Старый Фэм и, не ожидая вступительных слов поднявшегося с места председателя, начал:
– Библейская сказка о всемогущем создателе рассчитана на легковерных. Нет, не божественная воля положила начало разуму, а сама природа…
– Это кощунственно! – перебил академик Экс. – Отрицать акт творения, предопределенность алгоритмического казуса может только… только…
– Договаривайте! – прогремел Фэмоуз. – Впрочем, у вас за душой нет ничего, кроме обветшалых догм. Отрицать эволюцию, основанную на естественном отборе, сегодня может только… только…
– Коллеги, не нужно реагировать на чисто эмоциональные факторы, – затряс колокольчиком председатель. – Старый… Гм‑м… Профессор Фэмоуз так редко выступает перед нами, что…
– Можно продолжать? – холодно осведомился Старый Фэм. – Хотя в любую минуту я готов освободить вас, уважаемые и неуважаемые коллеги, от своего присутствия…
Угроза подействовала.
– Имейте мужество признать, что синтезированные нами белконоиды, при всем их преходящем несовершенстве, обогнали нас в интуиции, умении находить правильное решение вопреки логике, строить догадки, воображать. А их способность непроизводственно размножаться? Дешево, эффективно! И вот ведь что самое удивительное: они получают от этого удовольствие!
– Не хочет ли сказать уважаемый профессор, – вкрадчиво спросил аспирант Некто, воспользовавшись паузой, – что он и сам не прочь…
– Безусловно! – отрубил Фэмоуз. – Это единственная возможность выжить. Структура белконоидов проста и рациональна. А наша? Вот вы, молодой коллега, представляете свое устройство?
– Конечно, профессор, – с достоинством подтвердил Некто. – Если пожелаете, я сейчас же изображу укрупненную структурную схему…
– А неукрупненную?
– Но зачем?
– Да или нет?
– Это же триллион микроблоков! И потом, я же не проектировщик!
– Если память не изменяет, – с издевкой сказал Фэмоуз, – проектировщиков не существует. Еще тысячу лет назад перешли на машинное проектирование. Подумать только, мы не в состоянии себя спроектировать! Всецело зависим от машин! Незаметно утратили самостоятельность, функцию самопрограммирования и самоусовершенствования. А белконоиды, в отличие от нас, воспроизводят себя сами, причем во все возрастающих количествах. Что же касается темпов их самоусовершенствования… Сейчас я… Я продемонстрирую вам…
Аудитория напряглась, предвкушая кульминацию.
– Сейчас я продемонстрирую вам… – повторил Старый Фэм, и голос его преисполнился торжества, – белконоида, интеллект которого не только не уступает нашему, но в среднем на пятнадцать баллов выше. Я дал ему имя Человек.
– А что оно означает, профессор? – донеслось с галерки. – И где вы его откопали?
Старый Фэм вдруг смутился.
– Это древнее, чисто кабалистическое слово, – сказал он неуверенно. – Не ищите в нем смысла.
Интеллект
Святой
– Нет, вы не гомо сапиенс, Луи! Совсем наоборот…
– Хотите меня оскорбить, Милютин? – осведомился Леверрье ледяным тоном.
– Отнюдь! То же самое могу сказать о себе и о любом из нас.
– Значит, с человеком разумным покончено. Тогда кто же я, черт возьми?
– Гомо инкогнитас.
– Человек неизвестный?
– Точнее, непознанный. Мы постигли глубины Вселенной, но так ли уж много знаем о себе? Мозг гения и мозг кретина – даже под электронным микроскопом не обнаружишь разницы. А сколько таинственных явлений, связанных с нашей жизнедеятельностью, истолковано до смешного поверхностно!
– Вы всегда были чуточку мистиком, – сказал Леверрье назидательно.
– При чем здесь мистика?
– Писал же профессор Феллоу…
– Ох уж эти профессора, – перебил Милютин. – Все‑то им ясно! Впрочем, я не прав. И среди профессоров встречаются думающие люди. Но прошу вас, Луи, не произносите при мне имени Феллоу. С ним у меня связаны, мягко говоря, не слишком приятные воспоминания.
– Вот как?
– Помните мои опыты с пересадкой памяти? Тогда Феллоу назвал меня гробокопателем, посягающим на духовные ценности умерших!
– Согласитесь, что у него имелись для этого э‑э… некоторые основания. В затее с пересадкой памяти действительно было нечто… нечто…
– Довольно, Луи! Бог с ней, с пересадкой. Будем считать ее моей творческой неудачей.
– Вот видите. Но эта неудача позволила вашим противникам объявить вас идеалистом: мол, Милютин отрывает духовное от материального, сознание от мозга.
– Я пробовал заменить одну материальную основу другой. Впрочем, не стану оправдываться.
– На самом деле, мы отклонились от темы разговора. Так что вы имели в виду, упомянув о таинственных явлениях? Телепатию?
– Обычное внушение.
– То есть гипноз?
– Не только. Возьмем исторический пример. Вы слышали о Луизе Лотто?
– Нет, – признался Леверрье.
– О, в конце девятнадцатого века она стала знаменитостью. Будучи религиозной до фанатизма, Луиза самовнушением вызывала у себя стигматы.
– Стигматы? Это еще что такое?
– Так называли кровавые пятна на руках и ногах – в местах, где, согласно Евангелию, при распятии Христа были вбиты гвозди. Представляете, в какой экстаз приводила Луиза верующих! Парижская Академия наук не смогла объяснить это явление, и церковь, воспользовавшись беспомощностью ученых, объявила его сверхъестественным. А между тем… – Милютин рассмеялся.
– Что «между тем»? – нетерпеливо переспросил Леверрье.
– Стигматы у Луизы Лотто появлялись совсем не в тех местах, куда римляне вбивали гвозди при казни распятием, а там, где их изображали иконописцы.
– И что с ней было потом?
– Ее причислили к лику святых. Святая Луиза… Постойте… Отчего бы вам тоже не сделаться святым? Получилась бы чудесная пара! Святое семейство: Луиза и Луи! Сам великий Феллоу…
Леверрье насупился.
– Вы же просили не упоминать его имени!
– Мало ли что я просил!
Милютин внезапно вскочил со скамьи, на которой они сидели, и принялся вышагивать по аллее взад‑вперед, что‑то беззвучно бормоча под нос.
– А почему бы не попробовать! – задорно воскликнул он, садясь. – Знаете что, Луи, давайте проведем любопытный эксперимент!
– Над кем?
– Над вами, разумеется. Маленький опыт внушения.
– Я не поддаюсь внушению, – оскорбленно произнес Леверрье.
– Вот и отлично, значит вам не грозит участь Гордье!
– А кто он?
– Преступник, осужденный на смертную казнь. Пообещав легкую смерть, ему завязали глаза, слегка царапнули запястье и стали поливать руку теплой водой, внушая: у вас перерезаны вены, вы истекаете кровью…
– И что же Гордье?
– Умер. При вскрытии обнаружили анемию мозга, как при сильной кровопотере.
– Впечатлительная натура… К счастью, у меня железные нервы, – не без тревоги в голосе заявил Леверрье. – Так что я должен делать?
– Ничего особенного. Помнится, вы занимались аутотренингом: «Мое тело тяжелеет, наливается свинцом…»
– Мне тепло… приятно… я засыпаю… засыпаю… за…
– Постойте! – поспешно сказал Милютин. – Не то вы и впрямь заснете. От вас требуется другое: убедите себя, что вы электрическая лампочка.
– Какая еще лампочка?
– Обыкновенная, ватт на шестьдесят. Больше вы вряд ли потянете.
– Вы с ума сошли!
– Сошел, конечно, сошел, – успокаивающе проговорил Милютин. – Но все равно, окажите мне эту дружескую услугу. Повторяйте за мной: я – лампочка… по моим жилам течет электрический ток… мне тепло… электроны движутся все быстрее… от меня исходит сияние… оно все ярче и ярче…
* * *
Две монашенки шествовали по саду Тюильри. В конце аллеи их внимание привлекли два странных человека. Один – высокий, смуглый, похожий на дьявола. Второй – низенький, полный, с венчиком жидких волос, обрамляющих макушку. Глаза его были закрыты, а вокруг головы, подсвечивая лысину, сиял нимб.
Монашенки замерли, затем, не сговариваясь, рухнули на колени.
– Идите с миром, – сказал человек, похожий на дьявола. – Святой Луи сегодня не принимает. Он занят.
– Возликуем, сестра, – дрожащим голосом произнесла первая монашенка. – Возблагодарим господа, ниспославшего нам чудо.
– Возликуем… – эхом откликнулась вторая.
Оглядываясь и мелко крестясь, они помчались докладывать аббатисе о чуде святого Луи.
Леверрье очнулся.
– Я говорил, что все это ерунда! Надо же было придумать – электрическая лампочка!
– Не все опыты оказываются удачными, – сказал Милютин.
Воскресни из мертвых!
– Как вам это удалось? – спросил Леверрье восхищенно. – Вы превзошли самого себя: Витрувий и Ле Корбюзье словно живые.
– Они и есть живые, – ответил Милютин.
– Не понимаю… Конечно, человек в конце жизни может передать самосознание компьютеру, слиться с ним в общность и тем самым обрести бессмертие. Не биологическое, нет! Так сказать, бессмертие души…
– Скажу по секрету, Луи, – понизил голос Милютин, – вы отстали от жизни. Белок – трудный материал для синтеза, да и элементная база не из лучших. Но за миллион лет мы к ней привыкли. И вот научились‑таки ее синтезировать. Так что и биологическое бессмертие…
– Кажется, я уже ничему не удивлюсь, – сказал Леверрье. – И все же это бессмертие для живущих. Витрувий и Ле Корбюзье…
– Давно умерли, хотите вы сказать?
– Да, умерли. И говорить приходится об их воскрешении из мертвых. А это похоже на мистику. Я же не верю ни в библейские легенды, ни в сказки о живой воде!
– Зачем так категорично? Вовсе не обязательно верить. Более того, ни во что нельзя верить слепо. Но допускать возможность самого маловероятного события, лишь бы его вероятность не равнялась нулю, необходимо.
– Значит, все‑таки воскрешение из мертвых… Рассказывайте! – потребовал Леверрье.
– Началось с одной из тех фантазий, которые принято называть беспочвенными. Впрочем, осуществимость любой фантазии может в считанные минуты подтвердить или опровергнуть компьютер.
– Так вы оставляете за собой фантазию, а все остальное передаете компьютеру?
– Совершенно верно.
– Но почему не пойти до конца, ведь компьютер тоже способен фантазировать, я имею в виду хотя бы последовательный перебор всевозможных вариантов по критерию…
– Лярбе? – подхватил Милютин. – А вы не так просты, Луи. Отдать фантазию компьютеру. Тогда мне стало бы скучно! К тому же… Хотите парадокс? Именно неограниченность фантазии компьютера мешает ему фантазировать. Он не может остановиться. Чтобы удовлетворить критерию Лярбе, нужно выполнить условие… Помните формулу? В нашем случае стокс под знаком гамбриуса эллиптического в числителе правой части неизбежно стремится к бесконечности. Что это значит?
– Вероятно, что время перебора фантазий также устремляется в бесконечность, – предположил Леверрье не слишком уверенно.
– Вот именно! – обрадовался Милютин. – Таким образом, условие не выполняется и, заметьте, при любом реальном быстродействии компьютера.
– А если ввести ограничения?
– Кто их сформулирует?
– Хотя бы сам компьютер.
– К счастью, на Земле существует человеко‑машинное общество, а не машинно‑человеческое, – жестко сказал Милютин. – Порядок слов играет здесь решающую роль.
– Значит, сформулировать ограничения должен человек?
– Как раз этим я и занимаюсь. Минус моего мозга – ограниченность фантазии. Минус компьютера – ее неограниченность. Минус на минус, как всегда, дает плюс.
– Игра слов, – вырвалось у Леверрье.
– Возможно, вы и правы. Но ведь теория игр по‑прежнему важнейший раздел математики.
– Ох, Милютин, с вами бесполезно спорить – уходите в сторону. Расскажите лучше толком, как вам удалось воскресить Витрувия и Ле Корбюзье?
– Вы будете разочарованы, Луи. Все очень просто. Конечно, я давно подумывал о реконструкции личности. Даже подкидывал кое‑что компьютеру… Но не получалось, пока я не вспомнил Герасимова…
– Постойте… Это кинорежиссер или живописец?
– Нет, я имел в виду антрополога Герасимова, разработавшего метод восстановления лица по черепу. Ему удалось создать очень точные скульптурные портреты многих исторических деятелей – Ивана Грозного, Тимура, Улугбека… И вот я задумался: творческая личность оставляет после себя книги, статьи, мемуары. Добавим воспоминания современников, документы. Нельзя ли, приняв все это за исходные данные, восстановить саму личность? Словом, я пошел по стопам Герасимова, о результатах же судите сами.
– А насколько верна подобная… реконструкция?
– Работы Герасимова также воспринимали с недоверием. Но контрольные тесты дали отличную сходимость!
– Послушайте, Милютин, правота Герасимова еще не означает…
– Моей правоты? Верно. Поэтому я тоже провел контрольный тест.
– На ком?
– На себе.
– Как? – вскрикнул Леверрье. – Вы решились восстановить… нет, продублировать собственную личность? И где же этот… человек?
– Перед вами.
– А тот… первый… настоящий? Ох, простите, что я говорю…
– Видите ли, два Милютина – слишком много. Мы бы мешали друг другу, занимаясь одним и тем же, и рано или поздно стали бы врагами. Таковы индивидуалисты…
– И кто же из вас принял решение?
– Да уж, конечно, не я, а Милютин‑1. Впрочем, какая разница! Сейчас мне кажется, что его вовсе не существовало. Был и остаюсь – я.
– Вы отчаянный человек, Милютин…
– И бог, и дьявол в совмещенной проекции, как вы однажды отозвались обо мне? Ну, полно, я не обижаюсь… Да, мне было страшно. По‑настоящему страшно, а я ведь не трус, вы знаете. И все же… Вот в давние времена исследователи не останавливались перед тем, чтобы привить себе чуму – это, вероятно, пострашнее!
Леверрье овладел собой.
– А достаточно ли информации, чтобы реконструировать личность человека, жившего в отдаленном прошлом? Допустим, с Ле Корбюзье все ясно. Он оставил огромное и разнообразное наследие. О нем много написано, да и вся его жизнь была на виду. А Витрувий? Даже его портрет не сохранился!
– В старину графологи по почерку определяли характер человека. Потом это сочли шарлатанством, и зря. Оказывается, между строками, пусть даже печатными, прячется Монблан информации. Стилистические особенности, строй мышления, даже частота повторения той или иной буквы многое говорит о человеке. Вспомните хрестоматийный пример. В течение столетий спорили о том, создал ли Гомер «Илиаду» и «Одиссею» или только скомпоновал фольклорные материалы. Разрешить спор смог лишь компьютер: скрупулезно проанализировав текст, он установил, что оба произведения от начала до конца принадлежат одному и тому же автору.
– Но этого недостаточно…
– Сегодня мы знаем о Гомере почти все, хотя источник информации прежний – «Илиада» и «Одиссея».
Леверрье продолжал упорствовать.
– Значит, компьютер многое домысливает?
– Безусловно, – согласился Милютин, – но с высокой степенью вероятности, не ниже 0,995. Все, что менее вероятно, в расчет не принимается.
– Вот видите, – торжествующе сказал Леверрье. – Значит, некоторые аспекты личности утрачиваются: вероятность, скажем, 0,8 достаточно велика. Допустим, событие произошло, а вы его игнорируете.
– Но сам человек тоже не все знает и не все помнит о себе. В шестьдесят лет он не тот, что в двадцать…
– А завтра не тот, что вчера?
– Да, каждый из нас лишь моделирует свою личность. Поэтому, для успокоения, можете считать не только Витрувия, Ле Корбюзье и Милютина, но и себя – всего лишь моделями.
– Это уж слишком… – начал было Леверрье и вдруг нахмурился. – Сейчас вы, наверное, скажете: «Машинное время дорого, пора выключать…»
– Э, нет! – рассмеялся Милютин. – Витрувий и Ле Корбюзье возвращены человечеству. Навсегда.
В разных Вселенных
Капсула с матрицей скользнула в приемное гнездо компьютера. На экране появилось лицо Федора.
– Ну, здравствуй, сын, – сказал Олег.
– Здравствуй, отец. И прости, что не пишу. Разве не приятнее побеседовать гак, как это делаем мы сейчас?
– Я разговариваю не с тобой, – грустно улыбнулся Олег, – а всего лишь с компьютером.
– Верно, – согласился Федор. – Но он настроен на мои личные параметры и воспроизводит таким, каким я был месяц назад. Все, что ты слышишь от него, ты услышал бы и от меня. Вот почему я считаю писание писем пустой тратой времени. И, пожалуйста, не обижайся. Мы с тобой достаточно близки, чтобы прощать друг другу. Например, я ведь не жалуюсь, что мой отец почти ничего мне не дал в духовном отношении. С тех пор, как ты целиком ушел в науку…
– Это так, – признался Олег. – Если не считать того, что ты пошел по моему пути…
– Но своей дорогой, – перебил Федор. – Рассказать о себе?
– Конечно, – кивнул Олег.
– Я только что вернулся из круиза по Млечному Пути. Интереснее всего было в созвездии Лебедя. Вблизи одной из звезд Вольфа‑Райэ есть любопытная планетка, но чересчур свирепая. Вначале три дня подряд был буран, и мы даже не смогли взять первый перевал. Ветер был ужасный, ничего подобного раньше не испытывал. Пришлось включить защитное поле… На втором перевале как раз перед нами чуть не замерзла группа англичан. Еле спасли дисколетами…
– А стоило ли рисковать? – спросил Олег. – Ведь есть гораздо более изящный и эффективный путь.
– Что ты имеешь в виду?
– Послать в круиз компьютер с твоими личностными параметрами. Он бы воспроизвел тебя на Млечном Пути. Результат был бы тем же, а риска никакого. Надо быть последовательным во всем. Если в общении с близким человеком можно подменить себя компьютером, то почему нельзя этого сделать в круизе?
– Но я хочу испытать все сам! – запальчиво воскликнул Федор. – В последний день мы шли по настоящей тундре и объедались мороженой ягодой, похожей на бруснику. В общем, есть о чем вспомнить.
– Рад за тебя, сын.
Федор задумался. Минуту длилось молчание.
– Все‑таки очень жаль, что мы так далеко друг от друга. А ведь как хорошо иметь рядом родного человека, с которым можно посоветоваться, поделиться сокровенным…
Олег почувствовал, что ему перехватило горло.
– Мне тоже недостает тебя, сын, – сказал он.
– Они живы? – осторожно поинтересовался Леверрье.
– Как вам сказать… И да, и нет. – Милютин задумался. – Кто же знал, что Федора внезапно пошлют в Межгалактическую экспедицию, которая возвратится лишь через несколько земных столетий!
– А Олег?
– Помните его нашумевшую теорию?
– Что‑то припоминаю… – неуверенно проговорил Леверрье. – Бесчисленное множество совмещенных в пространстве вселенных…
– Олег доказал правильность своей теории, – сказал Милютин. – Эксперимент удался… Счастье, что отец и сын оставили нам личностные матрицы.
– Это была блестящая мысль, устроить им эту встречу. Но, похоже, они не во всем сходились характерами?
– Зато теперь, кажется, нашли друг друга…
– В разных вселенных, – сказал Леверрье.
Звезды на ладонях
– Природа рациональна и экономична, – сказал Милютин, – ее девиз простота.
– Наоборот, – возразил Леверрье. – Мир движется от простого к сложному. Взять нашу прародительницу амебу…
– И вас, Луи, для сравнения, – саркастически перебил Милютин. – Спору нет, вы сложнее. Самую малость, но сложнее.
Леверрье обиженно насупился.
– Если бы вы не были моим давним другом…
– То вы вызвали бы меня на дуэль, а вместо шпаги вооружились бы лазером. Полно! Сделайте скидку на мой вздорный характер и перестаньте дуться. Конечно же, природа идет по пути усложнения, но она никогда не позволяет себе ничего лишнего. Ничто в ней не сложнее, чем это необходимо.
– Допустим, – сдался Леверрье. – Ну и что из этого?
– Дайте руку, – потребовал Милютин. – Да не так, а ладонью вверх. Ого, у вас могучая линия жизни. Долго будете жить, Луи!
– Что за чушь! Сегодня вы меня удивляете. Ведь не станете же вы утверждать, что верите в хиромантию.
– Не стану. Хотя… Хорошо вам, Луи, вы человек категорических суждений, мыслите в двоичном коде: да, нет, ноль, единица… А круглые цифры всегда врут, так утверждал один древний философ, и я, знаете ли, с ним согласен. Но дело не в этом. Посмотрите на собственную ладонь: какие изощренно сложные линии, какие причудливые папиллярные завитки на пальцах! Не напоминает ли это галактику или хотя бы звездную туманность?
Леверрье пожал плечами.
– Вы фантазер, Милютин. И если хотите прочитать лекцию по дактилоскопии, то напрасно. Мне хорошо известно, что отпечатки пальцев сугубо индивидуальны и никогда не повторяются, по крайней мере в одном поколении…
– Вот, вот… Но не передаются ли они от поколения к поколению?
– Какая разница? – равнодушно произнес Леверрье. – Кого, кроме полицейских, это интересует?
– Меня, – сказал Милютин. – И все человечество. Вот уже не первое столетие пытаемся мы вступить в контакт с инопланетянами. Поиски сигналов, посланных миллионы лет назад, возможно, уже не существующими цивилизациями, бум с летающими тарелками и вездесущими гуманоидами, сенсационные находки примитивных наскальных изображений, якобы оставленных пришельцами. Даже в полярном сиянии усмотрели источник внеземной информации. А все гораздо проще! Галактические письмена на наших ладонях!
– Вы с ума сошли! – вскричал Леверрье.
– Возможно, – холодно согласился Милютин. – Но почему, скажите на милость, природа пошла на неоправданное усложнение? Почему кожа на ладонях не такая, как на груди, спине, животе? Почему папиллярные линии нельзя стереть, они восстанавливаются даже если содрать с пальцев кожу? Для чего понадобился колоссальный запас надежности? Если допустить, что папиллярные линии несут в себе информацию, то она идеально защищена.
Леверрье забарабанил пальцами по колену.
– Остается пустяк, – сказал он нарочито бодрым тоном, – расшифровать информацию.
– Я это сделал, – помолчав, проговорил Милютин.
Леверрье остолбенел.
– Но это немыслимо… Нет, вы понимаете, что говорите?.. А если на самом деле… Тогда нужно немедленно, слышите, немедленно…
– Информация должна быть полной, Луи, только в этом случае игра стоит свеч. Моих и ваших ладоней, увы, недостаточно. Понадобились бы руки всех людей Земли. И, самое главное, чистые руки, иначе информация принесет не пользу, а вред. Огромный, непоправимый вред.
– Все, что угодно, можно отмыть до стерильной чистоты! – заверил Леверрье.
– Все, кроме рук, жаждущих власти, денег и смертоносного оружия…
Тамтам
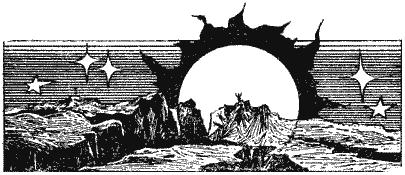
– В Эквадоре землетрясение, – оторвавшись от газеты, сказал Леверрье.
– Тамтам, – пробормотал Милютин. – Турнедо в стиле Монтморенси великолепная вещь! А знаете, как готовится? Нужно нарезать морковь в форме орешков и тушить в сливочном масле на медленном огне. Поджарить мясо а‑ля соте и выложить на гренки. Оставшуюся на сковороде жидкость разбавить белым вином, соусом «Деми‑глас» и вскипятить. Донышки артишоков…
– Постойте, – взмолился Леверрье. – При чем здесь тамтам? Ведь это африканский барабан. А Эквадор…
– Не сомневаюсь в ваших географических познаниях, Луи. Правда, слово «тамтам» индийского происхождения, но я, действительно, имел в виду африканский барабан. Только не как музыкальный инструмент, а…
– Как сигнальное средство?
– Мы понимаем друг друга с полуслова, – улыбнулся Милютин и отодвинул тарелку. – То, что произошло в Эквадоре, предсмертный к