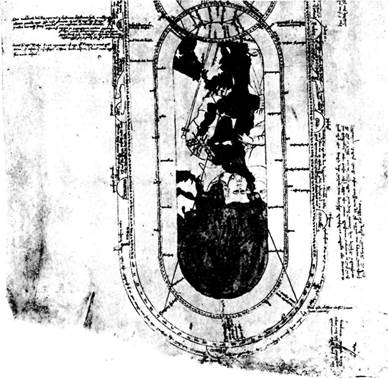Индивидуальность поэта находила весьма различные формы. В частности, склонность говорить о себе и выстраивать собственную биографию несравненно четче выражена у Петрарки, нежели у Данте. Автобиографическая тенденция побеждает у него исповедальную, столь характерную для авторов XI—XIII веков. «Исповедальный тон часто врывается в биографическое самодовление жизни в эпоху раннего Возрождения. Но победа остается за биографической ценностью», — замечает Бахтин, имея в виду, в частности, Петрарку1.
В самом деле, в послании «К потомкам» Петрарка колеблется между позицией смиренного христианина и знающего себе цену поэта. Первый, «смертный человечишко», якобы преисполнен традиционных для Средневековья скромности и сознания греховности, смирения пред лицом Господа. Следуя традиции, он говорит о своем «обращении» — открытии ему высшей истины, которое радикально переменило всю его жизнь и, отвратив его помыслы от греховного, направило их к «священным знаниям». Второй, поэт, не скрывает горделивого сознания высокого достоинства увенчанного лаврами победителя поэтов; им владеет жажда славы. Перечисляя многочисленные почести, каковые он стяжал, Петрарка отчетливо сознает, что они им заслужены. Он вполне обладает высоким авторским самосознанием.
Но обе ипостаси — поэта и христианина — едва ли порождают напряженность в самоизображении Петрарки. Называя свое имя «ничтожным и темным» и сомневаясь в том, чтобы оно «далеко проникло сквозь пространство и время», поэт тем не менее надеется, что тот, к кому он обращается, «возжаждет узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя». «Величайшие венценосцы моего времени, — пишет он,— соревнуясь друг с другом, любили и чтили меня, а почему — не знаю; сами не ведали; знаю только, что некоторые из них ценили мое внимание больше, чем я их». Поэт лукавит: он превосходно и сполна знает себе цену, печется о славе, потому-то и
обращается к потомству. Едва ли не первым из тех, кто оставил собственные жизнеописания, Петрарка указывает день и час своего появления на свет: «в год этой последней эры, начавшейся рождением Христа, 1304-й, на рассвете в понедельник 20 июля».
Подобно тому как провожатым Данте по миру мертвых был Вергилий, Петрарка берет себе в собеседники и наставники не кого иного, как безмерно ценимого им Аврелия Августина, и ведет с ним долгие беседы в безмолвном, но многозначительном присутствии самой Истины. В его «Сокровенном» («Secretum») Августин и Франциск являют собой как бы две ипостаси поэта, углубляющегося в себя: перед нами своего рода исповедь. Не показательно ли, что в то время как предшествующая эпоха видела в Августине прежде всего философа, одного из отцов церкви, Петрарке он интересен с личностной, психологической стороны, как автор «Исповеди»?
Петрарка кается в своих заблуждениях и прегрешениях, сокрушаясь о порче нравов и упадке и деградации современного ему мира, коего он не любил и не одобрял, вполне в духе средневековой традиции «Ubi sunt». Но, заявляя о собственном несовершенстве, он вместе с тем видит в себе и в других поэтах особую породу. С нескрываемым пренебрежением смотрит он на окружающий его люд, поглощенный повседневными заботами. Оставим город купцам, юристам, менялам, ростовщикам, сборщикам налогов, нотариусам, врачам, заявляет поэт. Он перечисляет при этом ни много ни мало — три десятка профессий и людей разного рода занятий, включая преступников, иностранцев, мимов, в перечень этот попадают и архитекторы, и художники, и скульпторы... «Они — не нашего пошиба».
Ибо Петрарка живет в другом измерении. Он встает затемно и с первыми лучами солнца выходит из дому; он размышляет, читает, пишет, общаясь с друзьями. Но кто они, его друзья? Это не только те, с кем он непосредственно встречается в жизни, но и те, что скончались много веков назад и ведомы ему по их сочинениям. «Я собираю их отовсюду и из любого времени... и я беседую с ними с большей охотой, нежели с теми, кто воображает себя живыми, благо они произносят свои грубости и выдыхают пар на холоде. И так я странствую, свободный и спокойный, наедине со своими избранными товарищами».
Но и с ними он отнюдь не склонен вести себя только как их последователь. «Я стараюсь идти по дороге, проложенной нашими предками, но я не хочу рабски ступать в следы их ног. Мне нравится подражание, а не копирование; и, подражая, я избегаю крайностей и стараюсь, чтобы был виден зрячий ум подражателя, а не слепой или подслеповатый... Я хочу иметь не такого вож-
дя, который бы тащил меня за собой на аркане, но такого, который, идя впереди меня, указывал бы мне путь. Однако и ради него я ни за что не соглашусь лишиться своих глаз, свободы и собственного мнения. Никто никогда не запретит мне идти туда, куда мне нравится, избегать того, что мне не по душе, испытывать себя в делах, никем не предпринимавшихся, избирать для себя тропинки, более удобные и прямые»2.
Петрарка осознает себя как бы принадлежащим «большому времени» (если воспользоваться понятием Бахтина), он непринужденно переходит из эпохи в эпоху, везде чувствуя себя дома — и с самыми отдаленными своими предшественниками, и с потомками.
Самосознание поэта, будь он древний грек или римлянин, скандинавский скальд или итальянский гуманист, mutatis mutandis кажется мало изменчивым. Он не может творить, не осознавая собственной исключительности и высокого личного достоинства, не может не заботиться о своей славе в настоящем и в будущем. Но в контексте христианской культуры ему не избежать формул смирения.
Однако феномен личности Петрарки сказанным не исчерпывается. Все средневековые авторы «исповедей», «апологий» и «автобиографий», так или иначе, были заняты выстраиванием своего образа и самооправданием и, в той или иной степени, сознательно отбирали факты собственной жизни для того, чтобы вылепить свой «имидж»; поэтому они неизменно обращались к образцам, «примерам» — знаменитым фигурам древности и только посредством самоуподобления им могли осознать собственную личность. Но в случае Петрарки мы сталкиваемся, по-видимому, уже и с чем-то новым. Он не просто уподобляет себя тем или иным прототипам, он последовательно вырабатывает миф собственной жизни3.
Цель творчества он видел в сознательном конструировании своего Я, и главное его достижение — лепка собственного величественного образа. Он добивается того, что уже в тридцатисемилетнем возрасте, в апреле 1341 года (к этому времени основные его творения еще не были написаны), его увенчивают лаврами первого поэта. Но — поразительное совпадение: как утверждает Петрарка, в тот самый день, когда он получил предложение быть увенчанным в Риме, прибыло совершенно аналогичное приглашение из Парижа; он, разумеется, отклонил его, ибо желал, чтобы на его голову был возложен лавровый венец не где-либо, а именно в римском Капитолии! Далее мы увидим, что это было не единственное достойное удивления совпадение в жизни поэта.
Петрарка прославился в истории литературы прежде всего сонетами, посвященными Лауре и его любви к ней. Но существо-
вала ли в действительности такая женщина? Обладала ли она большей материальностью, нежели Дантова Беатриче, не было ли имя этой возлюбленной дериватом от лавров, о которых постоянно грезил поэт и которых он добился? Вопрос, может быть, второстепенный для оценки поэтического гения Петрарки, но далеко не иррелевантный в контексте творимого им мифа о собственной жизни.
На этот вопрос едва ли можно дать убедительный ответ. Вот что Петрарка отвечал одному из своих корреспондентов, который высказал сомнения в реальности Лауры: его идея о святом Августине в такой же мере фикция, как и любовь этой дамы4. Ответ звучит довольно двусмысленно и иронично, поэт скорее склонен загадывать загадки, нежели разрешать их.
26 апреля 1336 года Петрарка совершает восхождение на гору Ванту (близ Авиньона), для того чтобы с ее вершины полюбоваться на открывающийся пейзаж. В тот же вечер, по возвращении домой, он, пренебрегая крайней усталостью, описывает это событие своему другу. В письме упоминается такая деталь: гулявший на вершине горы ветер раскрыл томик «Исповеди» Августина (который сопровождал поэта в этом путешествии, как и во всех других), раскрыл как раз на той странице, где он прочитал: «И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд, — а себя самих оставляют в стороне!» (Confess. X, 8). Легко видеть, что и этот подъем на гору (расцениваемый «петраркове-дами» как начало альпинизма и первый симптом «современного» отношения к природе, эстетического любования ею, не свойственного предшествовавшей эпохе) Петрарка не забывает интерпретировать как аллегорию духовного восхождения. Действительность и воображение кажутся сплавленными здесь воедино.
Свидетельство о странном совпадении восхождения на гору с «вмешательством» Августина — духовного наставника Петрарки содержится в послании, которое получило свою окончательную форму лишь семнадцать лет спустя. И этот факт — не исключение. Дело в том, что на протяжении почти всей жизни Петрарка писал письма друзьям, причем над текстом многих из них продолжал работать в разные периоды; из этих-то посланий, адресованных, таким образом, не только конкретным современникам, но и последующим поколениям, мы и узнаем о многих событиях жизни поэта, в том числе упомянутых выше. Но в таком случае возникает вопрос: в какой мере письма Петрарки, годами и десятилетиями писавшиеся и редактировавшиеся, отражают действительные события его жизни, а в какой порождены его фантазией, направленной на создание его биографии? «Жизнь как
произведение искусства» — так назвал это явление английский исследователь жизни и творчества Петрарки, тут же, однако, прибавив: «Если это послание (о восхождении на гору. — А. Г.) и выдумано, эта фикция столь же многозначительна, как и жизненный опыт, который мог за ним скрываться»5.
Подобный подход к собственной жизни, конструируемой по античным образцам, но уже не в виде разрозненных фрагментов, как то было в Средние века, а в целом, от начала до конца, — новое явление. Он не кажется симптомом несобранности собственного Я, которое составляется из серии образцов,— напротив, в случае Петрарки приходится, скорее, предположить продуманную и целостную жизненную стратегию. У Петрарки налицо воля быть не только человеком своего времени, но — и прежде всего — человеком классической древности, им возрождаемой («Я живу ныне, но предпочел бы родиться в другое время»), и вместе с тем связать себя с будущим. Не свидетельствует ли эта стратегия о рождении нового типа человеческой индивидуальности?
Примечания
1 См.: Бахтин М.М. Цит. соч. С. 131.
2 Перевод Р. И.Хлодовского. Цит. по: Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М., 1974. С. 124—125.
3 Подробнее см. об этом: Боткин Л.М. Петрарка на острие собственного пера. Авторское самосознание в письмах поэта. М., 1995.
4 Mann N. Petrarca. Oxford, 1987. P. 94.
5 Ibid. P. 91: «If this letter is a fiction, it is a fiction quite as significant as any expérience which may lie behind it».
«В этом безумии есть метод»
Казус Opicinus de Canistris, авиньонского клирика, жившего в первой половине XIV столетия, заслуживает, мне кажется, отдельного рассмотрения, так как этот сюжет, во многих отношениях уникальный, вместе с тем выявляет некоторые особенности личности своей эпохи. Терзаемый неотступными мыслями о неизбывной греховности мира, страхом погибели души и вечного проклятья, Опицин неустанно бьется над самим собой, размышляет, углубляясь в собственное Я и проецируя его на универсум. В то же время, поглощенный своей персоной, он не в состоянии ее изъяснить. Ненормальность Опицина лишала его способности контролировать изъявления собственного Я в той мере, в какой подобную сдержанность обычно проявляли более уравновешенные авторы — как его предшественники, так и совре-
менники. Если авторы исповедей, апологий и автобиографических опытов, с которыми мы имели дело до сих пор, были более или менее известными и даже выдающимися людьми, творчество которых находило резонанс у современников и потомков, то рисунки и рукописи Опицина на протяжении ряда столетий оставались в тайниках архивов. Ныне ситуация изменилась, и я считаю существенным разобраться в том, как самосознание людей первой половины XIV столетия преломилось не только в творчестве великих деятелей культуры, но и в созданиях более заурядной личности. Поистине маниакальная сосредоточенность Опицина на идее греха и невозможности его искупления послужила основанием для предположения, что перед нами психопатология1. Однако не выразились ли в его душевном недуге определенные, исторически обусловленные тенденции формирования индивидуальности?2
Сведения об Опицине немногочисленны, и все, что о нем известно, почерпнуто из его трудов. О своей жизни он сам сообщает в двух рукописях3. Все его произведения полны аллюзий и откровений и в какой-то мере дополняют его биографию. Опи-цин родился 24 декабря 1296 года в местечке Ломелло (к западу от Павии), в Ломбардии. Эта итальянская провинция была в XIII—XIV веках театром типичных для того времени социальных и политических конфликтов — между гвельфами и гибеллинами, между империей и папством. Именно по политическим мотивам его семья была сослана на три года в Геную (1316—1318). Отец Опицина происходил, видимо, из средней или мелкой аристократии или буржуазии. Среди его родственников было много нотариусов и священников. Отец нашего клирика, как и его старший брат, вероятно, погиб в борьбе против гибеллинов (около 1317 г.). С ранних лет Опицин должен был зарабатывать на пропитание семьи, служа учителем и переписчиком книг. Хотя еще в отрочестве он был определен к церковной карьере, в шестнадцати- семнадцатилетнем возрасте ему пришлось пройти военную службу у гвельфов. Затем с 1323 года мы видим его в должности кюре в Павии. Следующие годы его жизни (1324—1328) остаются во мраке. Известно лишь то, что у Опицина были какие-то неприятности, и в папских документах он значится как подвергшийся за какой-то проступок папскому отлучению (которое, однако, не было исполнено). Причина неприятностей, как указывается в документах, — акт симонии4.
Эти несчастья обрекли Опицина на годы странствий и лишений (в Северной Италии и долине Роны). Он покидает родную Павию с целью обрести новую жизнь вдали от родины. В 1329 году, утративший все надежды, он прибывает в Авиньон с тем, чтобы
там обосноваться. В 1330 году благодаря помощи профессора права Жана Кабассоля он назначается писцом при папской курии. Не последнюю роль в этом назначении сыграло и благосклонное отношение папы Иоанна XXII к Опицину — автору трактатов во славу церкви.
Следующие три года жизни клирика отмечены симптомами нарастающей болезни, причина которой, возможно, возникшие на почве неприятностей и последовавших затем лишений невроз и общее истощение. Весной 1334 года он впадает в прострацию, и его преследуют видения. Это было обострение психической болезни, которая не оставляла Опицина до конца его дней. Избрание нового папы — Бенедикта XII — вызвало у него новый всплеск мании преследования. В 1335 году он начинает лихорадочно писать и рисовать. В 1336 году он рисует таблицы на пергаменте — это так называемый кодекс Palatinus latinus 1993. В 1337 году он исписывает рисунками и подписями тетрадь на 200 листов — так называемый кодекс Vaticanus latinus 6435. Известно, что 24 января 1337 года его процесс в папской курии был, наконец, удачно для него завершен (Vat. lat. 6435), но облегчение пришло слишком поздно — болезнь, по-видимому, уже приняла необратимый характер. Однако эйфория по поводу разрешения проблемы отразилась в его рисунках.
О его дальнейшей жизни мало что известно. Папские документы 1348 года говорят о его близких отношениях с окружением Климента VI. В год Черной Смерти почти все близкие Опицина умирают, и он остается один. Но никаких упоминаний об утратах его сочинения этих лет не содержат. Свидетельствует ли это о его равнодушии или, как считают М.Лаари и Г. Ру, о том, что между повседневной жизнью и творчеством Опицина были более сложные, опосредованные связи, трудно судить. Умер Опи-цин в 1351 году, в возрасте примерно 55 лет.
Творческая деятельность Опицина четко делится на два периода — до 1334 года, года обострения болезни, и после. Он с детства был увлечен письмом и рисованием, проявлял большой интерес к иллюминированным рукописям. Первые его сочинения не сохранились — они написаны в Павии, и известны лишь их названия5. Наиболее существенную роль в его жизни сыграл написанный в 1329 году трактат «О превосходстве власти духовной» («De preeminentia spiritualis imperii»). В нем он представляется беглым священником, покинувшим Павию из-за преследований гибеллинов и оказавшимся в Авиньоне. В трактате Опи-цин обращается к папе и прославляет его как викария Христа, а его врагов изображает как слуг дьявола. Как уже упоминалось, именно этому трактату клирик был обязан своей должностью
писца. В 1330 году Опицин пишет другой трактат — «Похвала Павии» («De laudibus Paviae»). Трактат написан в духе распространенного в Италии жанра laudatio urbis. В нем отражена изумительно точная топография города, в подробностях рассказывается о его управлении и повседневной жизни. Примечательно, что ни о борьбе гвельфов и гибеллинов, ни о постигшем его отлучении Опицин вообще не упоминает.
Хотя Опицину и пришлось немало пережить, главные его жизненные трудности, по-видимому, были не внешнего, а внутреннего, психологического порядка. Причиной его невзгод служила его собственная личность. Сознание отягченности грехами и своей никчемности не оставляло его, а физические недуги усугубляли это состояние. Приблизительно в сорокалетнем возрасте Опицин пережил кризис. Он заболел и, по его утверждению, на протяжении десяти дней оставался в бессознательном состоянии. Очнувшись, он испытал «второе рождение», так что «все забыл и не мог представить себе, как выглядит внешний мир». Ему явилась во сне Святая Дева с Младенцем и взамен тех книжных знаний, какими он обладал ранее и которые частично утратил в результате болезни, даровала ему «духовное знание». При этом его правая рука была парализована, так что он не был в состоянии исполнять функции писца. Тем не менее чудесным образом он оказался способным создать обширную серию рисунков, сопровождаемых заметками и пояснениями. Опицин дает ясно понять, что эта способность была дарована ему свыше6.
Это уникальное собрание картин и текстов представляет собой причудливую комбинацию чертежей, географических карт и схем с зарисовками и автопортретами. С маниакальным упорством Опицин все вновь возвращается к одним и тем же идеям и образам. Приходится заключить, что он одержим этими мотивами. Историк ментальностей найдет в этих продуктах фантазии Опицина редкостную возможность ближе подойти к тем пластам личности, которые едва ли могли быть открыты в одном только словесном дискурсе. Перед нами — в высшей степени своеобразное психологическое свидетельство.
Эти произведения, плод «внутреннего перерождения», современный издатель называет «автобиографией»7, но автобиографией такого рода, какой более не встречается не только в Средние века, но, пожалуй, и в Новое время. Опицин углубляется в свою жизнь, в собственное Я, однако делает это не в форме связного литературного изложения. Повествовательный ряд его явно не устраивает. Среди выполненных на пергаменте рисунков, формат которых достигает 100x50 см, — символические изображения Церкви, фигуры Христа, Девы, библейских патриархов и пророков,
знаки зодиака, животные и существа, символизирующие евангелистов, сцены распятия...
По наблюдению исследователей, процесс рисования начинался с создания геометрической схемы, с начертания овала, круга (или нескольких пересекающихся кругов), в который затем вписывалась та или иная фигура. Некоторые основополагающие принципы, используемые почти во всех рисунках Опицина, продолжают средневековые традиции трактовки соотношения макрокосма и микрокосма. Установлены и более конкретные художественные влияния и заимствования. Опицин использует модели, известные из искусства его времени, из картографии и витражного ремесла, так же как из медицинских и анатомических трактатов эпохи. Однако общая система, в которую он включает свои рисунки, оригинальна и скорее всего принадлежит ему самому; он отбирал лишь определенные образцы, отвечавшие его целям и умонастроениям. Главное же — перенесение элементов картографии или анатомии в сакральный контекст и сопровождавшее его перетолкование, придание нового, символического смысла — принадлежат ему. При всех связях с предшественниками и современниками, Опицин сумел создать свой собственный образный и мыслительный универсум8.
Тексты, соседствующие с рисунками или испещряющие их, как правило, представляют собой довольно бессвязные записи, далеко не во всех случаях поддающиеся расшифровке, и самые рисунки подчас остаются загадочными. Дело в том, что Опицин создавал эти рисунки, в отличие от других своих сочинений, явно не для посторонних зрителей и читателей — они служили для него своего рода способом освободиться от душевного беспокойства. Они отражают страхи, которые упорно его преследовали; самообвинения, включая весьма интимные признания, изредка перемежаются с выражениями надежды на спасение. Опицин кается, что ему не только трудно сосредоточиться на теологических вопросах, но подчас во время церковной службы его посещают богохульные мысли; неукротимые позывы расхохотаться посреди таинства мессы, которую он отправлял, побуждали его воздерживаться от исполнения священнических функций и вновь и вновь добиваться отпущения грехов. Опицина тяжко угнетает сознание глубокой личной греховности. Если куча оставленных им беспорядочных рисунков и заметок имеет общую тему, то это — сам Опицин. Не покидающее его чувство вины и проистекающее отсюда самоуничижение находят гипертрофированно эгоцентрическую форму выражения. Но не менее поразительно то, что раскаяние и сокрушение по временам перемежаются внезапными приступами крайней гордыни: ибо не кто иной, как именно он, Опицин, наделен даром познать тайную божественную мудрость!

Для изложения своей «автобиографии» Опицин прибегает к необычному приему. Он рисует схему, изображающую сорок концентрических колец, каждое из коих соответствует одному году его жизни, подобно кольцам горизонтального разреза дерева9. Схема разделена по неделям — своеобразный календарь, соотнесенный, как водится в Средние века, со знаками зодиака. Тут же расположены портреты четырех евангелистов. Годичные кольца испещрены текстами, в которых запечатлены факты жизни Опицина, происшедшие в соответствующий год.
Немаловажное значение Опицин придает годам своего детства и отрочества. Уже этот период его жизни отмечен, как он сообщает, множеством прегрешений. Среди последних он упоминает ложь, богохульство, пристрастие к чтению языческих античных авторов. Многие признания Опицина перекликаются с соответствующими разделами «Исповеди» Авустина. Пристрастие ко лжи и другим грехам осталось, по его признанию, присущим ему и в последующие периоды жизни. В центре схемы помещен его автопортрет. «Автобиография» сопровождается и четырьмя другими автопортретами, стилизованными и схематичными, — они изображают автора в разные периоды жизни: в десять, двадцать, тридцать и сорок лет. Эти «автопортреты», выдержанные в духе средневековой типизирующей традиции, едва ли передают черты его внешности (хотя Р.Саломон полагает, что изображение на портретах щуплого человечка со впалыми щеками и тонкой шеей в какой-то мере передает его облик). Но мысль о многократном изображении своей собственной персоны в разном возрасте, несомненно, принадлежит Опицину с его обо-стреннным самосознанием и, насколько известно, до него никому не приходила в голову.
Этот отягощенный чувством вины и греховности человек вместе с тем одержим идеей, что созданное им есть не что иное, как «новейшее и вечное Евангелие» (evangelium novissimum sempiternum), которое должно получить папское благословение и читаться во всех церквах. По-видимому, ему, подобно иным его современникам, не чужд взгляд на себя как на пророка. Граница между мистическими прозрениями и логикой, опять-таки в духе его времени, здесь стерта10. Даже день своего рождения — 24 декабря — он склонен толковать символически, одновременно и сопоставляя себя с Христом и противопоставляя себя ему.
Но Опицин и его изображения включены в более всеобъемлющую концептуальную систему. Ибо на одном из автопортретов на его груди (или, скорее, в его раскрытой груди) помещен своего рода медальон с картой Средиземноморья, изображенной в перевернутой, зеркальной проекции11. Очертания Европы на
этом медальоне, как и на многих других его рисунках, представляют собой изогнутую фигуру мужчины, головой которого служит Пиренейский полуостров, а грудь образуют Северная Италия и Южная Франция с сердцем в Авиньоне — папской резиденции в тот период. Мужчина наклонился к женщине, очертания которой охватывают север Африки; она как бы шепчет ему что-то на ухо (на уровне Гибралтарского пролива). Эти фигуры, как гласят сопровождающие надписи, символизируют Адама и Еву в момент грехопадения, а Гибралтарский пролив есть место их грехопадения. Мало этого, очертания Средиземного моря, в свою очередь, напоминают Опицину страшную гротескную фигуру — это Князь мира сего, дьявол, расположившийся между Европой и Африкой. Восседая на троне, он правит земным миром. Средиземное море, центр мира, по убеждению Опицина, есть не что иное, как mare diabolicum. Наконец, атлантическое побережье Франции и проливы между нею и Англией имеют очертания некоего чудовища, символизирующего смерть. Мир воспринимается антропоморфно и, да простят мне неологизм, «демономор-фно». Человек стоит между дьяволом и смертью.
Как видим, Опицин использует традиционную средневековую схему «макрокосма — микрокосма»: человек соотнесен со все-

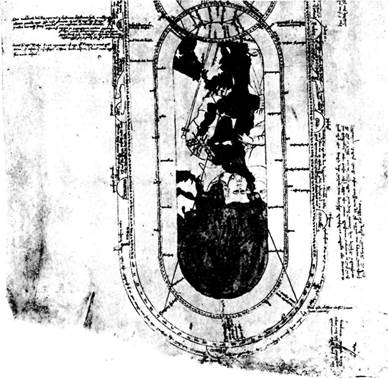
ленной и представляет собой ее аналог. Но привычная схема переосмыслена и в определенном отношении как бы вывернута наизнанку. Не фигура человека — «малого мира» — вписана в «большой мир», а, наоборот, макрокосм, предельно очеловеченный, оказывается включенным в микрокосм. Главное же, этот микрокосм — не абстрактная символическая фигура, а сам Опицин. В нем, в его груди заключен весь мир. Этот мир в целом и все его части и элементы в отдельности насыщены символическими значениями, которые Опицин с поистине маниакальной последовательностью ищет буквально во всем. Рядом с медальоном, изображающим Средиземноморье с Европой-мужчиной и Африкой-женщиной и помещенным в груди Опицина, написано: «таков я внутри» (talis sum ego interius), «откровение о моих побуждениях, ведомое Господу» (revelatio cogitationum mearum coram Deo)12. Можно ли более наглядно выразить склонность к самокопанию? В своих поисках антропоморфной картины мира Опицин весьма изобретателен и по-своему логичен. Вполне вероятно, что образцом для его фантастической картографии послужили карты,
которые в тот период входили в обиход мореплавателей и купцов. Вместе с тем он неплохо знаком с районами Северной Италии и Южной Франции. Но образы людей, транспонированных на очертания побережья Средиземноморского бассейна, он черпает в самом себе, и то, что выходит из-под его пера, — это карта его духовного пространства. Р.Саломон называет карту Опицина «carte moralisée». Но ее можно, пожалуй, рассматривать и как «историю болезни» ее создателя.
По убеждению Опицина, грех разлит в мире, и доминирующая фигура Князя тьмы наглядно символизирует это плачевное положение. Но карта означает нечто более личное и глубоко драматичное: зло не просто разлито повсюду — оно концентрируется в душе самого Опицина. Фигуры мужчины и женщины, изображающие Адама и Еву, вместе с тем выражают состояние собственных души и тела нашего клирика. Рядом с картографическими изображениями Европы читаем: «Все это я обнаружил в собственном сознании, свидетельствующем против меня в Судный день... В себе самом нашел я судию, готового предать меня осуждению...»13. Его существо отмечено первородным грехом, и вся география вселенной представляет собой одновременно «топографию» его внутреннего мира, расшифровку глубокой, неискоренимой греховности его личности и символ его судьбы, как бы «записанной» в конфигурации континентов, в небесных знаках, в обстоятельствах и дате его рождения, даже в его имени и в каком-то высказывании Фомы Аквинского, ибо, как утверждает Опицин, святой Фома будет свидетельствовать против него на суде Господа14. Все объединилось против него, и во всем Опицин находит доказательства своей неизбежной погибели и источник безграничного пессимизма. Ад помещен им в ряде рисунков в центре мира, и дьявол, контуры коего он разглядел на этой карте, искушает его, при этом — в тех же выражениях, в каких он искушал самого Христа! Поистине раскаяние и сокрушение в грехах граничат здесь с неимоверным превознесением собственной личности...
Облаченная в священническое одеяние фигура Опицина, с симметрично распростертыми руками, монументально статуарная, взятая сама по себе, могла бы быть воспринята как символ спокойствия и умиротворенности, но окружающие ее надписи тотчас убеждают в поспешности и неосновательности этого впечатления. Опицин бесконечно далек от душевного равновесия. Он не перестает вопрошать самого себя: «Кто я? Кто я?» (Quis sum ego? quis sum ego?). «Заносчивый фарисей — таким выгляжу я снаружи в своей гордыне», — читаем мы на одной подписи. А около медальона с картой Средиземноморья, оказывающейся символом первородного греха и царства дьявола, начертано: «Та-
ков я внутри в моей гордыне». Надписи вполне симметричны по смыслу и призваны раскрыть глубокую внутреннюю противоречивость и разорванность личности автора. Проблема «внутреннего человека» и «человека внешнего», возникающая еще в посланиях апостола Павла (первый соотнесен с Господом, тогда как второй принадлежит земному миру с его страстями и заблуждениями), вывернута здесь наизнанку — точно так же, как наизнанку вывернут мир на символической карте, заключенной в груди Опицина.
Вспомним, что, по выражению Миша, средневековая индивидуальность осознавала себя «центробежно». Однако в случае Опицина приходится говорить о странном сочетании «центробежности» с «центростремительностью», ибо автор не довольствуется тем, что помещает себя в центр мира, — он ухитряется одновременно заключить весь этот мир внутри своего существа!
Такова ли была средневековая традиция? Вспомним, например, святую Хильдегарду Бингенскую (XII век). В видениях этой визионерки, тоже запечатленных в текстах и рисунках, между «микрокосмом» и «макрокосмом» существуют умиротворенный синтез и равновесие; в подобных изображениях доминирует чувство гармонии и спокойной упорядоченности. Сама Хильдегар-да тоже увековечена на этих рисунках, но где именно? — Она расположена вне микрокосма-макрокосма, у ног человеческой фигуры, олицетворяющей микрокосм, в позе созерцательницы, которая зарисовывает увиденное ею15. Хильдегарда — заинтересованная зрительница, не участвующая непосредственно в таинстве гармонического соответствия малого и большого миров, но лишь свидетельствующая о нем благодаря милости Творца. Объясняется это тем, что ей совершенно чуждо акцентирование субъективного начала, — чуждо в несравненно большей мере, нежели иным ее современникам, придерживавшимся принципа «scito te ipsum». Излагая свои видения, Хильдегарда как бы элиминирует себя; ее внимание всецело сосредоточено на Творце и его творении. «Господь любит не персону (Deus autem personam non amat), — говорит она, — но те творения, кои несут Его отпечаток. Как сказал Сын Божий: пища Моя в том, чтобы творить волю Отца Моего»16.
Иначе Опицин. В его схемах мы тоже, как и у Хильдегарды, трудов которой он не знал, видим круги и овалы, в которые заключены видения макро- и микрокосма, но у Опицина эти фигуры множатся, переплетаются и налагаются одна на другую. Главное же различие заключается в том, что Опицин вносит в эту систему тревожную дисгармонию, выражающую его собственное душевное неблагополучие. Это уже не откровение, данное пра-
веднику в видении, — это упорно возобновляемые удрученным сознанием попытки выразить собственные страхи и упования. Если Хильдегарда — не более чем благочестивый медиум, посредством которого осуществляется коммуникация между высшим и земным мирами, то Опицин творит образы того и этого миров. Он неизменно и последовательно субъективен.
Между субъективностью Опицина и индивидуальным самосознанием Петрарки — великая дистанция. В частности, восприятие Опицином соотношения между космосом и индивидом едва ли можно приравнять к модели, какую выработали гуманисты17. И тем не менее, mutatis mutandis, и Опицин находит в мире ту «точку отсчета», которая лежит в нем, а не вовне.
Антропоморфная карта Средиземноморья, помешенная в груди Опицина, снабжена надписью: «Откровение моих побуждений» (Revelatio cogitationum mearum). Сознание греховности и повышенное чувство вины, которое как раз в ту эпоху овладевает умами значительной части населения и интенсивно культивируется церковными проповедниками, концентрируется в личности Опицина и одновременно спроецировано на весь мир. Вселенная преисполнена грехов, но сосредоточены они в душе индивида. Это он, Опицин, стоит посредине мира, вместе с тем вмещая его в себя, и от его персоны распространяются на весь мир эманации его душевного состояния. Рисуя мир, Опицин пронизывает его своим собственным Я, своими упованиями на спасение, но прежде всего — не покидающим его чувством виновности и неизбывным страхом перед неминуемой погибелью души.
Если мы вправе видеть в озарениях Хильдегарды Бингенской и видениях Опицина феномены, в которых выразились определенные духовные и эмоциональные доминанты соответственно XII и XIV веков, то станет более понятным сдвиг, который произошел в самосознании личности на протяжении разделяющих их полутора-двух столетий. Гармония сменилась дисгармонией; божественный космос потеснен картиной демонизированного мира. Этот мир не превратился в дезорганизованный хаос, но разные его плоскости, ранее четко распределенные и разделенные, теперь совместились. Сложная и запутанная система символов, созданная Опицином, свидетельствует о предельной противоречивости его сознания.
Исследователи склонны видеть в рисунках Опицина исповедь, при посредстве коей ему, однако, не удается достигнуть примирения с Творцом. Его символические географические представления насквозь морализированы и даже, повторяю, демонизиро-ваны. Г.Ладнер видит в личности Опицина и в его творчестве яркий пример «отчуждения» индивида от мира и разлада между ним
и Богом18. Он разделяет мнение Э. Криса о том, что Опицин страдал шизофренией, был «одержим болезненными исканиями собственной души и являлся жертвой порождающих психоз маниакальных галлюцинаций». Возможно. Поражает поистине болезненное упорство, с каким он от рисунка к рисунку вновь и вновь возвращается ко все тем же образам, фигурам и идеям, повторяя в сопровождающих их надписях одни и те же формулы. Во многих записях Опицина вообще трудно найти какой-либо смысл и логику, настолько они загадочны, отдаленные или бессвязные ассоциации беспорядочно нагромождаются одна на другую, и ключ к разгадке потерян. Любое слово или имя может породить в его уме новые фантазии и увести его куда-то в сторону.
Таково содержание одной из сохранившихся рукописей Опицина. Но и в другой мы находим все тот же конгломерат разрозненных и бессистемных заметок на каждый день, в которых фиксируются его внешний и внутренний опыт, религиозные размышления и ученые упражнения, а