

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Топ:
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Как всякое вырождение (атавизм), и современное эстетическое одичание означает конец, а не начало, не детский лепет, а старческое косноязычие. И этим существенно отличается оно от искусства дикарей, которому внешне подражает, но от которого внутренне отстоит дальше всего. Искусство дикарей – примитив. Этим не вполне точным термином мы называем такое состояние искусства, когда, еще не развитое и даже зачаточное, оно заключает в себе некую недифференцированную полноту духовной выразительности. Религия, мораль, быт, все чувство жизни и мира наивно претворяются примитивом в наивную художественную форму, полную, как сосуд священный, творческих недосказанностей.
Примитивное искусство всегда глубоко содержательно. Чем примитивнее, тем содержательнее. Вот почему в этом первоначальном искусстве собственно искусства как намерения, если угодно, и нет. Есть предмет культа, фетиш, магия, суеверие, ворожба – не эстетика. Икона, а не картина; не статуя, а идол. Но именно в отсутствии эстетического намерения – неподражаемая сила. Именно в этой, не формальной, а внутренней иносказательной значительности – обаяние примитива. В нем все строго, последовательно, иератично. Ничего от прихоти, ничего «для красоты». И вместе с тем отсюда – та красота, которой любуемся мы, праправнуки. Потому что дух человеческий, воплотившийся в образ, в изобразительную форму, наполнивший форму своим восторгом, своим страданием, своими надеждами, своим богопознанием, – дух творца, замкнувший себя навеки в глину, камень, дерево, звук, краску, живет в веках и обращает в красоту: глину, камень, дерево, звук и краску.
Примитив насыщен духовностью, забытой правдой о древнем человеке и древнем его мире: все особые черты примитива, все странности и уродства имеют глубокий смысл. Когда дикарь изображает богиню плодородия в виде женщины с огромным животом и отвислыми грудями, это его космогоническая правда. Когда дикарь приделывает непомерно большие головы фетишам‑демонам, это его правда: размером головы подчеркнуто преобладание духовных, сверхъестественных сил над плотскими, физическими. Когда дикарь, стараясь вызвать изображением чувство ужаса (настоящего, нужного ему ужаса), придумывает фантастические военные маски, это его правда. Когда дикарь, религиозное чувство которого все основано на суеверном страхе и на колдовстве‑шаманстве, вырезает из дерева и высекает из камня гримасничающих уродов, многоруких страшилищ, рогатых оскаленных карлов и великанов, демонообразных зверей и зверообразных демонов – это его правда, это примитив. Но когда те же формы, те же большие головы и устрашающие подробности бессмысленно заимствуются современным художником, ни чуточки не верящим ни в шаманство, ни в первобытные космогонии, заимствуются лишь потому, что он, современный художник, пресытился более развитой формой, что чернокожая экзотика и грубость – те сильные средства, которые нужны ему для возбуждения художественного аппетита, что нравится ему эта прямолинейная грубость, как грубость, и уродство, как уродство, как найденная «простота формы», тогда все становится ложью, извращением, старческим слабоумием. Тогда получается упадок, эстетское кривляние, гроб повапленный. Не примитив, а, наоборот, ультиматив, самое крайнее эпигонство. Изображая своих каменных и деревянных баб‑чудовищ, проповедуя огрубление и упрощение формы, по образцам, созданным в ту пору человечества, когда оно еще жило больше инстинктом, чем разумом, экстремисты творят искусство, за которым, дальше которого, из которого может быть только гибель искусства, отказ от искусства, самоубийство искусства.
|
|
|
|
VIII
Вечна ли живопись?
Есть варварство и варварство. Одно – зерно живое, другое – махровое отцветание. В экспрессионизме живого зерна я не вижу. И если бы вся современная живопись, отказавшись навсегда от других путей, сделалась экспрессионистской, это несомненно означало бы, что европейской живописи настал конец, приблизились ее последние сроки, что человечество перешло в ту фазу бытия своего, когда изобретательное искусство ему не нужно, когда потребность в зрительной эстетике ушла из обихода.
Ничего невозможного нет в этом допущении. Вся логика эволюции художественных идей в XX веке, в связи с общим социальным кризисом наших пронзенных большевизмом дней, скорее за то, что такая угроза живописи есть. Разве с каждым годом у нас на глазах не уменьшается значение живописи, не слабеет ее влияние на общество? Разве хула на живопись, на искусство не раздается все громче – хотя бы из лагеря тех «реформаторов жизни», которые считают себя выразителями нового «классового сознания»?
Чтобы не быть голословным, я приведу цитату из книжки, изданной в советской России{32}. Она принадлежит небезызвестному критику, дошедшему в увлечении своем идеей коммуны (как передавали мне приехавшие недавно «оттуда» художники) до последовательного антиэстетизма и даже полнейшего, в конце концов, отрицания живописи. Правда, в цитируемой статье Н. Пунина отрицается только красота, «эта бессмысленнейшая из всех фикций человечества» – искусство прошлых эпох, изжитое, буржуазное, которому противополагаются «рельефы» Татлина (штукатурка, стекло и железо), «пространственная живопись» Митурича, «живописная работа материалов» Бруни, супрематическая живопись Малевича и пр., но на этой последней ступеньке удержаться трудно, и Пунин, по словам очевидцев, давно уже требует «пресечения» художеств как совершенно не нужных для процветания рабоче‑крестьянского рая. После слов, приводимых выше, это нас не удивит.
«Художественное произведение в лучшем случае, – заявляет Пунин, –коэффициент эстетического вкуса эпохи, и пролетариат прав, не интересуясь вкусами своих угнетателей. Их наслаждения – не его наслаждения, и красоту, которую они создавали, он не повторит и не может повторить, если бы даже хотел. Какое, в самом деле, дело рабочему до какой‑нибудь Мадонны (!), статичной в своем замкнутом рамой пространстве, с непонятной умильной улыбкой и всеми этими атрибутами мертвой и к тому же враждебной ему клерикальной цивилизации? Он, привыкший измерять пространство приводными ремнями, знающий материал, со всеми его богатствами, скрытыми, требующими напряженного внимания свойствами, разве захочет или сможет оценить эту дребезжащую живопись с ее нехитрыми, хотя бы ловкими приемами, живопись, не требующую даже настоящей силы и того векового голодного напряжения, с которым он, пролетарий, ковал свое право на класс? Разумеется нет, и это „нет“ звучит гордо; не следует его пугаться, как не следует пугаться ни одного „нет“, исходящего из этого многомиллионного сердца, так равномерно бьющегося накануне великой эры… В упорном нежелании пролетариата принять европейское искусство – железная, неумолимая последовательность, и те, которые вместе с ним этого искусства не принимают, – те гораздо ближе к подлинной пролетарской идеологии, чем те, которые во что бы то ни стало хотят всучить пролетариату это искусство. В этом отношении – и не только в этом – идеологи социализма, отрицающие искусство, всегда, по нашему мнению, правы. Пролетариату действительно не нужно и чуждо все европейское, классовое, индивидуалистическое и теперь мертвое искусство; он его отрицает, в этом отрицании мощь удивительная, цельная, обновляющая последовательность пролетариата».
|
|
Итак, по мнению Н. Пунина (а ему и книги в руки), пролетариат упорно не желает «принять» европейское искусство, и всегда правы идеологи социализма, отрицающие это искусство. Новому «классовому сознанию» может ответить лишь то искусство, которое, в свою очередь, является отрицанием «каких‑нибудь Мадонн», «статичных в замкнутом рамой пространстве» и прочих картин «клерикальной цивилизации». То есть вместо живописи предлагается татлинская станковая архитектура… тупик, «не очень чистый, но прямой и вымощенный».
Мне кажется, что в этой мысли Пунина есть правда. Коммунистское устроение жизни и то, что мы называем искусством, – понятия несовместимые. Живопись должна погибнуть, если осуществится Третий Интернационал. Называйте как угодно цивилизацию христианских веков, хотя бы и «клерикальной», – дело не в названии, – но если она не вечная , если человечеству предстоит «великая эра» безбожного коллективизма после неудавшейся христианской культуры личности, то нет основания считать вечной и живопись… Современный демократический ее упадок всюду вопиет в Европе, а современное «социалистическое» ее умирание в Советской России, надо сознаться, плохое, очень плохое предзнаменование…
|
|
Или все это временно? и еще возродится старый дух европейства? и живопись, переболев экстремизмом, вернется на славные пути свои, чтобы идти дальше к неведомой красоте? Или предстоит еще Европе новое Возрождение, новые победы национального гения, новые боговдохновенные подвиги живописи? Это уже область социологических догадок и пророчеств.
Но если предстоит – тогда с каким воодушевлением должны мы бороться, не скрывая от себя опасности, с заразой большевиствующего антиискусства и эстетического дикарства, которой охвачена нынче живопись и от которой живопись погибает на наших глазах.
МСТИСЛАВ ДОБУЖИНСКИЙ – ГРАФИК[207]
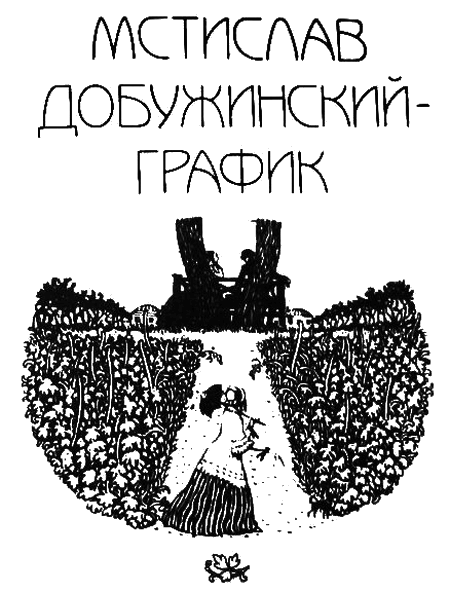
Мстислав Валерианович Добужинский – его творчество, да и весь облик, стройный, по‑европейски сдержанный, чуть насмешливый – может быть, самое петербургское из всех воспоминаний моих о Петербурге…
Странный, необыкновенный город Петербург. Автор «Преступления и наказания» называл его самым фантастическим на земном шаре, оттеняя какой‑то особый прозаизм Петербурга, его миражную будничность, его посюстороннюю жуть. «Умышленный» город – сказал еще Достоевский и выразил некую сущность Петровой столицы, призрачной Северной Пальмиры, с ее сумасшедшей историей, с ее великодержавным лоском и провинциализмом, с ее особняками и промозглыми питейными заведениями – рядом с ее проспектами, чугуннорешетчатыми набережными, рынками, пустынными площадями и захолустными переулками, и вечной слякотью, и гнетущим мраком зимой, и летнею пылью, и сумеречными весенними ночами, и неизбежными наводнениями осенью, когда палит пушка Петропавловской крепости, сотрясая стены политических казематов, и ветер, петербургский, ни с каким другим не сравнимый, «отовсюду дующий» ветер обдает лица прохожих колючей изморозью…
Но не таким только вспоминается мне Петербург, город Раскольникова, и злополучного Акакия Акакиевича, и Аполлона Аполлоновича (из романа Андрея Белого)[208]. Я вижу и тот, другой, «Старый Петербург», величественно‑строгий, но почти ласково выплывающий из туманов прошлого, Петербург братьев Трезини, Растрелли, Тома де Томона, Воронихина, Баженова, Захарова, – Петербург, каким Достоевский его не видел, но видел Пушкин, каким представляется он на литографиях начала XIX века и каким полюбили его художники в начале XX… И мерещится еще третий, мой собственный Петербург, до боли памятный, – Петербург неизгладимых детских впечатлений, оттеснивших все остальные, Петербург, с которым смешиваются воспоминания о первых печалях и восторгах сердца: о беготне на горке у памятника Петра, о балаганах на Царицыном лугу, о первых рождественских елках, об откидных ступеньках кареты, доставившей меня в первый раз в Большой театр, и обо всем таинственном игрушечном мире детской, прекрасном, как позже не бывает ничто и никогда.
|
|
Можно ли примирить между собою эти три столь разных Петербурга: полубред «Записок из подполья», мечту ретроспективистов «Мира искусства» и сон‑воспоминание младенческих лет? Примирить так, чтобы не каждый Петербург волновал отдельно, а все вместе – дополняя друг друга, сливаясь в художественное целое? Примирение я нахожу в графике Добужинского. Для меня волнующая прелесть этой графики в «петербургскости» одинаково близкой и Достоевскому, и Пушкину, и… Андерсену. Положительно не знаю, какая нота звучит у него сильнее. Они созвучны в его искусстве, соединяющем элегичность, навеянную альманахами 30‑х годов и панорамами «Санктпетербурха», и лукавую романтику по детским воспоминаниям, и поэзию неизъяснимой городской жути. Я имею в виду не один петербургский пейзаж Добужинского, но весь аромат его графической лирики: какую‑то насыщенность «Петербургом» в кавычках этих рисунков, отдающих но большей части старинкой и в то же время заостренных иронией современника, чтущего детские сны и от снов переходящего так естественно к сказкам‑будням города. Добужинский всегда грезит и всегда наблюдает, любит и посмеивается, оплакивает дни минувшие и связан с явью, жестокой, мучительной, подчас безотрадной, подчас увлекающей терпким волшебством. В Добужинском отлично уживаются эстет, забавник и психолог: эстет, сентиментально оглядывающийся назад на милые петербургские могилы, на милую русскую провинцию времен очаковских, забавник, умеющий, как никто, очаровать игрушечной чертовщиной, психолог, более глубокий, чем это кажется на первый взгляд, знающий цену искушениям и призракам жизни.

К. Сомов.
|
|
|

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!