http://www.philosophy.ru/iphras/ library/karpinsk/
biophil.html#_Toc350770968
Вопросы для самоконтроля:
1. Почему ученые в своей повседневной работе не испытывают, как правило, нужды в философии?
2. Каким образом характерные современной науке процедуры специализации и унификации способствуют обострению интереса к философским и мировоззренческим вопросам?
3. Почему сам факт сомнения в познавательном процессе познания является своеобразным индикатором происходящих глубоких мировоззренческих трансформаций?
4. Прокомментируйте высказывание автора: «философия заканчивается с прекращением сомнения».
5. Почему крупные научные революции связаны с перестройкой философских систем?
6. Как можно проинтерпретировать высказывание автора, что наука в своем развитии имеет «многоэтажную структуру»? На каких «этажах» этой структуры роль философской работы наиболее значима?
В. Оствальд
 Слово натурфилософия <…> пользуется худой славой. Оно вызывает в нашей памяти умственное движение, господствовавшее в Германии сто лет тому назад; во главе этого движения стоял философ Шеллинг. <…> господство натурфилософии продолжалось недолго; неоспоримое господство в целом – самое большое двадцать лет. Особенно естествоиспытатели, для которых главным образом и предназначалась натурфилософия, скоро и совершенно отвернулись от нее, и затем на ее долю выпало такое же страстное осуждение, каким раньше было ее превознесение. Чтобы дать представление о чувствах, которые она возбуждала в своих бывших приверженцах, достаточно привести слова Либиха, которыми он изображает лишения в области натурфилософии: «И я пережил этот период, столь богатый словами и идеями, столь богатый истинным знанием и основательным изучением, он стоил мне двух дорогих лет моей жизни; не могу описать ужаса и отвращения, испытанных мною, когда я очнулся от этого опьянения».
Слово натурфилософия <…> пользуется худой славой. Оно вызывает в нашей памяти умственное движение, господствовавшее в Германии сто лет тому назад; во главе этого движения стоял философ Шеллинг. <…> господство натурфилософии продолжалось недолго; неоспоримое господство в целом – самое большое двадцать лет. Особенно естествоиспытатели, для которых главным образом и предназначалась натурфилософия, скоро и совершенно отвернулись от нее, и затем на ее долю выпало такое же страстное осуждение, каким раньше было ее превознесение. Чтобы дать представление о чувствах, которые она возбуждала в своих бывших приверженцах, достаточно привести слова Либиха, которыми он изображает лишения в области натурфилософии: «И я пережил этот период, столь богатый словами и идеями, столь богатый истинным знанием и основательным изучением, он стоил мне двух дорогих лет моей жизни; не могу описать ужаса и отвращения, испытанных мною, когда я очнулся от этого опьянения».
Если натурфилософия вызывала подобные чувства в своих бывших приверженцах, то неудивительно, что она вскоре совершенно исчезла из среды естествоиспытателей. Ее заменило механическое - материалистическое мировоззрение, которое в то же время получило развитие в Англии и Франции. Благодаря заблуждению приверженцев этого мировоззрения, по которому они считали его свободным от гипотез изображений действительности, это умственное направление характеризуется решительным нерасположением к другим воззрениям общего характера. Их презрительно называли «спекулятивными», которое и в настоящее время считается в среде естествоиспытателей бранным словом. Следует при этом заметить, что это нерасположение относилось собственно не к спекулятивным воззрениям вообще, а к таким, которые не входили в круги воззрений механической философии; последняя, конечно, не считалась спекулятивной, ибо ее не могли еще отличить от непосредственных научных данных. Следовательно, этот антифилософский образ мыслей был, субъективно по крайней мере, вполне честен. Причина того, что натурфилософия среди естествоиспытателей была так быстро и основательно побита материализмом, лежит просто в практических результатах. В то время как немецкие натурфилософы размышляли и писали о явлениях природы, представители другого направления вычисляли. Опыты вскоре могли представить массу фактических данных, обусловивших главным образом поразительно быстрое развитие естественных наук в девятнадцатом веке. Натурфилософы не могли со своей стороны противопоставить ничего равноценного этому обязательному доказательству превосходства противника. Хотя и у них были сделаны открытия, но, по выражению Либиха, балласт слов и безрезультатных идей был в то же время так велик, что действительные успехи науки совершенно исчезали в нем. Поэтому время натурфилософии представляется временем глубокого падения естественных наук в Германии, и намерение выступить под этим обесславленным флагом может показаться дерзким со стороны естествоиспытателей двадцатого века.
Однако наименованию натурфилософии можно придать еще и другое значение. Можно придавать ему значение, аналогичное с «природный» доктор, «природный» певец и т. д., и подразумевать под ним человека, занимающегося предметами, которых он не изучал. Перед этим толкованием я остаюсь безоружным. Ибо я по призванию естествоиспытатель, химик и физик и не имею права отнести философию к наукам, которые я изучал в обыкновенном значении этого слова. Даже свободное изучение философии при посредстве усердного чтения философских произведений было так не систематично, что я не могу его считать сколько-нибудь достаточной заменой систематического изучения. Поэтому, в оправдание своего смелого решения, я могу привести только тот факт, что и естествоиспытатель, занимаясь своей наукой, непременно приходит к тем же вопросам, которые разрабатывал философ. Умственные процессы, которыми направляется и приводится к успешному результату естественнонаучная работа, не отличаются по существу от тех, которые изучает философия. Сознание этой связи было временно затемнено во второй половине девятнадцатого века, но в наши дни оно снова пробудилось к живой деятельности, и повсюду в лагере естествоиспытателей являются желающие внести свой вклад в философские науки. Итак, мы скоро переживем новое развитие натурфилософии в обоих значениях этого слова, и большое число слушателей, собравшихся сегодня под этим знаменем, является доказательство того, что в сопоставлении этих двух понятий: природа и философия есть что-то притягательное, что все мы тут стоим перед задачей, разрешение которой для нас очень важно.
Во всяком случае, философия естествоиспытателя не должна заявлять притязаний на то, чтобы считаться законченной и вполне отделанной философской системой. Созидание таких систем мы должны предоставить философам по призванию. Мы вполне сознаем, что самое большое, на что мы можем претендовать, это - воздвигнуть здание, строение, внутреннее расположение которого указывало бы на умственный кругозор и способ мышления, вытекающее из наших ежедневных занятий с определенными группами явлений природы. <…>
Затем я должен сказать несколько слов об источнике излагаемых мною здесь взглядов и мыслей. В большинстве случаев я не могу указать, прочел я их, или они возникли в моем уме самостоятельно; ибо часто мне случалось замечать, что мысли, считавшиеся совершенно самостоятельными, оказывались воспоминаниями когда-то прочитанного или услышанного. Могу только сказать, что все эти мысли продуманы мной, и предоставляю очищающему действию времени доказать новое право собственности на ту или другую идею. Также не считаю себя обязанным называть всюду имена авторов, потому что в большинстве случаев и сам их не знаю. Я хотел бы здесь упомянуть только одно имя из числа современников, как имя человека, имеющего влияние на мое мышление: Эрнест Мах, и одно имя из числа умерших: Юлиус Роберт Майер. Я старался выполнить свою работу в их духе.
Отказавшись от притязаний, предлагаемая мною философия выиграла в миролюбии. К ней уже не может относиться то, что Шопенгауэр сказал об этих системах, что каждая из них, «едва появившись на свет, уже думает о гибели всех своих братьев, точно азиатский султан при вступлении на престол. Ибо подобно тому, как в улье может быть только одна королева, так точно только одна философия может царствовать в каждый час дня. Системы по своей природе так же необходительны, как пауки, которые сидят по одиночке в своих паутинах и только смотрят, сколько мух запутается в их сетях, к другому же пауку приближаются только за тем, чтобы с ним драться. Таким образом, в то время как поэтические произведения мирно пасутся друг возле друга, подобно ягнятам, философские представляют из себя лютых зверей, причем их хищнические инстинкты, подобно скорпионам, паукам и некоторым личинкам насекомых направлены главным образом против своих сородичей. Они появляются на свет подобно людям в латах, выходившим из зубов дракона, посеянных Язоном, и, подобно им, до сих пор все взаимно истребляли друг друга. Эта борьба продолжается уже больше тысячи лет; закончится ли она когда-нибудь последней победой и вечным миром?»
Это описание не подойдет к натурфилософии, как я ее себе представляю. Она воспользуется примером других наук, в которых тем больше царит мир, чем тверже их основание и чем дальше они ушли вперед. И в философии теперь можно уже отметить общие результаты, встречающиеся во всех вновь появляющихся системах. Сумма этих общих всем системам составных частей будет естественно со временем возрастать, так что можно предвидеть время, когда описание Шопенгауэра будет нас забавлять, как песни Илиады или саги Нибелунгов о рукопашных и словесных битвах героев. Если мы спросим себя, что способствовало первому огромному успеху натурфилософии и что вызвало ее быстрое поражение, то мы увидим, что первоначальная мысль, развитая Шеллингом, была в высшей степени ясной и чрезвычайно плодотворной. Шеллинг выразил эту мысль в формуле: мышление и бытие тожественно. Под этим он подразумевал, что одни и те же законы управляют духовной жизнью и внешним миром, или что обе области представляют в своих проявлениях большой параллелизм.
Эта мысль весьма убедительна. Каждый признает, что обе области: область внутреннего и область внешнего мира, находятся в постоянных внутренних отношениях. С одной стороны, наша духовная жизнь развивается под постоянным влиянием внешних предметов, с другой стороны, только те внешние предметы могут быть нами познаваемы, то есть, могут образовать наш внешний мир, которые каким бы то ни было образом связаны с нашим внутренним миром. Такая взаимная зависимость необходимо ведет к взаимной приспособляемости обеих областей, и чем совершеннее эта приспособляемость, тем лучше мы познаем внешний мир. <…>
Основная мысль Шеллинга заключала в себе зародыши для плодотворного развития. Но он совершил громадную ошибку, признав взаимное приспособление мышления и внешнего мира уже совершившимся и не приняв в расчет существующих несовершенств первого. Вследствие этого он поставил себе задачей вынести бытие из мышления, то есть дать законы природы какими они, по его мнению, должны были бы быть. Для совершенно развившегося интеллекта это, может быть, и было бы возможно, но, во всяком случае, это было бы излишне. Несовершенный же интеллект, каковым следует считать интеллект даже наигениальнейшего философа, может при такой попытке сделать грубые ошибки, какие мы, и находим в достаточном количестве у Шеллинга и его учеников.
 Чтобы убедительнее представить вам ошибку, при этом совершенную, я вам расскажу анекдот, сложившийся в свое время в насмешку над немцами вследствие господствовавшего у них натурфилософского мировоззрения. Речь идет о том, как поведут себя англичанин, француз и немец, если им будет предложена задача характеризовать свойства верблюда. Англичанин, говорится в этой истории, возьмет ружье, отправится в Африку, застрелит верблюда, отдаст набить из него чучело и поставит его в музей. Француз пойдет в парижский Jardin d’acclimatation и будет там изучать верблюда, а если бы такого там совсем не оказалось, он станет вообще сомневаться в его существовании и, во всяком случае, признает за ним чрезвычайно малое значение. Немцу же достаточно будет пойти в свой кабинет, где он конструирует свойства верблюда из глубины своего духа. Вот, следовательно, в чем состояла ошибка, сделанная натурфилософами, которую мы должны всеми силами избегать. Они пытались вывести опыт из мышления; наше мышление, напротив, будет всюду определяться опытом.
Чтобы убедительнее представить вам ошибку, при этом совершенную, я вам расскажу анекдот, сложившийся в свое время в насмешку над немцами вследствие господствовавшего у них натурфилософского мировоззрения. Речь идет о том, как поведут себя англичанин, француз и немец, если им будет предложена задача характеризовать свойства верблюда. Англичанин, говорится в этой истории, возьмет ружье, отправится в Африку, застрелит верблюда, отдаст набить из него чучело и поставит его в музей. Француз пойдет в парижский Jardin d’acclimatation и будет там изучать верблюда, а если бы такого там совсем не оказалось, он станет вообще сомневаться в его существовании и, во всяком случае, признает за ним чрезвычайно малое значение. Немцу же достаточно будет пойти в свой кабинет, где он конструирует свойства верблюда из глубины своего духа. Вот, следовательно, в чем состояла ошибка, сделанная натурфилософами, которую мы должны всеми силами избегать. Они пытались вывести опыт из мышления; наше мышление, напротив, будет всюду определяться опытом.
Однако, по справедливости, я должен сказать, что, несмотря на эту основную ошибку, натурфилософы имели успех. Так, философ Густав Теодор Фехнер, заслуги которого начинают все более и более признаваться, был в известном смысле воспитанником натурфилософии; из естествоиспытателей же мне достаточно назвать имена Эрштеда и Шонбейна. Эрштед открыл действие тока на магниты на расстоянии, -открытие, легшее в основу большей части современной научной и технической электрики. Химик Шонбейн открыл озон; он много работал над кислородом; его наблюдения, значительно опередившие его время, были признаны и развиты только в наше время. Я мог бы назвать еще несколько имен исследователей, работы которых заставляют нас признать, что, не смотря на искажение натурфилософии, благодаря ее основной ошибке, она владела силами и средствами, доставившими ей известные успехи.
Если мы проследим историю развития только что упомянутых открытий, то увидим, что они действительно возникли из принятого натурфилософами мировоззрения. Задача созидать действительность мышлением могла быть разрешаема, только делая заключения о неизвестном по аналогии с известным. Таким образом, натурфилософы выработали привычку сопоставлять самые различные вещи, если между ними существовала хоть какая-нибудь аналогия. Всякому присущи не только ошибки его преимуществ, но и преимущества его ошибок. Натурфилософы были свободны от всякого страха перед абсурдом, и это позволяло им находить такие аналогии, которые действительно существовали, но ускользали от их современников вследствие своих необычных свойств - вот чем обусловлены их открытия. Так, например, для Эрштеда само собою разумелось, что такие сильно полярно организованные вещества, как электричество и магнетизм, должны находиться друг с другом в тесных отношениях, так что вопрос был только в том, какого рода эти отношения. Поэтому он мог вполне схватить значение случайного открытия, когда на опыте, произведенном с совершенно другими целями, он заметил отклонение магнитной иглы, произведенное проходившим вблизи с током.
Оствальд В. Философия природы. Пер. с нем. О.А. Давыдовой.
Под ред. Э.Л. Радлова. – СПб.: Брокгауз-Эфрон, 1903. – С. 4-10.
Вопросы для самоконтроля:
1. Почему материализм в лице механистического мировоззрения так быстро «побил» натурфилософию?
2. Почему философия естествоиспытателя не может считаться вполне законченной системой?
3. В чем, с точки зрения автора, заключена главная идея и основная ошибка натур – философских построений?
Р. Рорти
Представление о том, что существует автономная дисциплина, называемая философией, отличная одновременно от религии и науки и в то же время опирающаяся на них, — совсем недавнего происхождения. Когда Декарт и Гоббс осуждали «философию схоластов», они не полагали, что предлагают в качестве замены новый и лучший вид философии — более удовлетворительную теорию познания, или лучшую метафизику, или лучшую этику. Подобные различия между «областями философии» еще не были проведены. Идея самой «философии», в том смысле, в котором она понимается, начиная с XIХ века, когда ее предмет стал стандартным предметом образования, еще не существовала. Оглядываясь назад, мы считаем Декарта и Гоббса «зачинателями новой (modern) философии», но они сами рассматривали собственную культурную роль сквозь призму <…> «войны между наукой и теологией». Они воевали (хотя и с благоразумной осторожностью) с целью сделать интеллектуальный мир более безопасным для Коперника и Галилея. Они не считали, что предлагают «философские системы», и рассматривали свой труд как вклад в процветание исследований по математике и механике, а также в освобождение интеллектуальной жизни от церковных институтов. Гоббс определял «философию» как «познание, достигаемое посредством правильного рассуждения (per rectаm radiocinationem) и объясняющее действия, или явления, из познанных нами причин». У него не было желания отделять сделанное им от того, что называлось «наукой». Только с Кантом пришло различие между наукой и философией. Пока не была сломлена власть церкви над наукой и образованием, энергия людей, которых мы считаем «философами», была направлена на демаркацию своей деятельности от религии. Только после того, как эта битва была выиграна, на повестку дня встал вопрос об отделении философии от науки.
 Постепенное отделение философии от науки стало возможным благодаря представлению, согласно которому «сердцем» философии служит «теория познания», теория, отличная от наук, потому что она была их основанием. Это представление восходит, по крайней мере, к декартовским Размышлениям и Трактату об усовершенствовании разума Спинозы, но достигает самоосознания только с Кантом. Это представление не отражалось на структуре академических институтов, на неизменном, нерефлективном самоописании профессоров философии, пока не наступил XIX век. Без такой идеи — «теории познания» — трудно представить себе, чем была бы «философия» в век современной науки. Метафизика — рассматриваемая в качестве описания того, как соединить в одно целое небеса и землю, — была заменена физикой. Секуляризация моральной мысли, которая доминировала в мыслях европейских интеллектуалов в XVII и XVIII веках, не рассматривалась в качестве поисков новых метафизических оснований, которые должны были занять место атеистической метафизики. Кант, однако, ухитрился трансформировать старое представление о философии — метафизики как «царицы наук» (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие наиболее базисной дисциплины — дисциплины оснований. Философия стала «первичной» уже не в смысле «наивысочайшей», а в смысле «лежащей в основе». Как только появился Кант, историки философии смогли заставить мыслителей XVII и XVIII веков пытаться отвечать на вопрос: «Как возможно наше познание?», и даже озадачили этим вопросом древних.
Постепенное отделение философии от науки стало возможным благодаря представлению, согласно которому «сердцем» философии служит «теория познания», теория, отличная от наук, потому что она была их основанием. Это представление восходит, по крайней мере, к декартовским Размышлениям и Трактату об усовершенствовании разума Спинозы, но достигает самоосознания только с Кантом. Это представление не отражалось на структуре академических институтов, на неизменном, нерефлективном самоописании профессоров философии, пока не наступил XIX век. Без такой идеи — «теории познания» — трудно представить себе, чем была бы «философия» в век современной науки. Метафизика — рассматриваемая в качестве описания того, как соединить в одно целое небеса и землю, — была заменена физикой. Секуляризация моральной мысли, которая доминировала в мыслях европейских интеллектуалов в XVII и XVIII веках, не рассматривалась в качестве поисков новых метафизических оснований, которые должны были занять место атеистической метафизики. Кант, однако, ухитрился трансформировать старое представление о философии — метафизики как «царицы наук» (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие наиболее базисной дисциплины — дисциплины оснований. Философия стала «первичной» уже не в смысле «наивысочайшей», а в смысле «лежащей в основе». Как только появился Кант, историки философии смогли заставить мыслителей XVII и XVIII веков пытаться отвечать на вопрос: «Как возможно наше познание?», и даже озадачили этим вопросом древних.
Эта кантианская картина философии, концентрирующаяся вокруг эпистемологии, получила полное признание только после того, как Гегель и спекулятивный идеализм перестали доминировать на интеллектуальной сцене Германии. Это случилось только после того, как люди, подобные Целлеру, начали говорить, что самое время кончать с системами и переходить к терпеливому труду сортировки, в ходе которой «данное» отделяется от «субъективных добавлений», имея в виду, что философия могла бы быть полностью профессионализирована. Движение «назад к Канту» в 60 годах прошлого века (XIX века – А.Ш.) в Германии было также движением «давайте примемся за работу» — способом отделения автономной неэмпирической дисциплины философии, с одной стороны, от идеологии и, с другой стороны, — от возникающей науки экспериментальной психологии. Картина «эпистемологии-и-метафизики» как «центра философии» (и «метафизики» как нечто такого, что возникает из эпистемологии, а не наоборот), установленная неокантианцами, сегодня встроена в программу образования. Выражение теория познания стало общепринятым и приобрело респектабельность после того, как философия Гегеля утратила свежесть. Первое поколение почитателей Канта использовало термин Vе rnunftkritik как удобный ярлык для того, «что делал Кант», слова Е rkenntnislehre и Erkenntnistheorie были изобретены значительно позднee (в 1808 и 1832 годах соответственно). Но затем вмешались Гегель и идеалистические системосозидатели и весьма запутали вопрос об «отношении философии к другим дисциплинам». Гегельянство распространило взгляд на философию как на дисциплину, которая 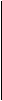 завершает и одновременно и поглощает все остальные дисциплины, но не служит для них основанием. Оно также сделало философию слишком популярной, слишком интересной, слишком важной, чтобы та стала по-настоящему профессиональной; оно сподвигло профессоров философии на то, чтобы олицетворять Мировой Дух, вместо того чтобы просто заниматься своим Fach. Очерк Целлера, который <…> «первым поднял термин «Erkеnntnistheorie» до его нынешнего достойного положения», заканчивается словами, что те, кто верит, что мы можем вывести все научные дисциплины из нашего собственного духа, могут продолжать идти вслед за Гегелем, но более здравый человек должен осознавать, что собственная задача философии (раз отвергнуто понятие вещи-в-себе, а с ним и искус впадания в идеализм) состоит в том, чтобы установить объективность тех утверждений знания, которые делаются в различных эмпирических дисциплинах. Это будет сделано подходящим априорным вкладом, вносимым в восприятие. Erkenntnisthе orie, таким образом, появляется в 1862 году как способ избежать и «идеализм», и «спекуляцию». Пятнадцатью годами позже Целлер замечает, что нет необходимости больше говорить о специальной роли Erkenntnistheorie, поскольку она сейчас общепринята «особенно среди наших молодых коллег». Тридцатью годами позже Уильям Джеймс будет оплакивать мрачный темперамент наших лысых молодых докторов философии, вгоняющих друг друга в тоску и скуку, пишущих ужасные обзоры литературы в Philosophical Review и другие журналы, пресытившихся «справочной литературой, и никогда не путающих «Эстетику» с «Erkеnntnisthеoriе».
завершает и одновременно и поглощает все остальные дисциплины, но не служит для них основанием. Оно также сделало философию слишком популярной, слишком интересной, слишком важной, чтобы та стала по-настоящему профессиональной; оно сподвигло профессоров философии на то, чтобы олицетворять Мировой Дух, вместо того чтобы просто заниматься своим Fach. Очерк Целлера, который <…> «первым поднял термин «Erkеnntnistheorie» до его нынешнего достойного положения», заканчивается словами, что те, кто верит, что мы можем вывести все научные дисциплины из нашего собственного духа, могут продолжать идти вслед за Гегелем, но более здравый человек должен осознавать, что собственная задача философии (раз отвергнуто понятие вещи-в-себе, а с ним и искус впадания в идеализм) состоит в том, чтобы установить объективность тех утверждений знания, которые делаются в различных эмпирических дисциплинах. Это будет сделано подходящим априорным вкладом, вносимым в восприятие. Erkenntnisthе orie, таким образом, появляется в 1862 году как способ избежать и «идеализм», и «спекуляцию». Пятнадцатью годами позже Целлер замечает, что нет необходимости больше говорить о специальной роли Erkenntnistheorie, поскольку она сейчас общепринята «особенно среди наших молодых коллег». Тридцатью годами позже Уильям Джеймс будет оплакивать мрачный темперамент наших лысых молодых докторов философии, вгоняющих друг друга в тоску и скуку, пишущих ужасные обзоры литературы в Philosophical Review и другие журналы, пресытившихся «справочной литературой, и никогда не путающих «Эстетику» с «Erkеnntnisthеoriе».
<…> я хочу проследить некоторые важнейшие стадии процесса перехода от кампании Декарта и Гоббса против «философии схоластов» к восстановлению в XIX веке философии как автономной, изолированной, «схоластической» дисциплины. Я буду поддерживать убеждение (которое разделяли и Дьюи, и Виттгенштейн), что взгляд на знание как на нечто такое, что представляет «проблему», и о чем мы должны иметь «теорию», является продуктом такой точки зрения относительно познания, согласно которой оно есть ансамбль репрезентаций, — точки зрения, как я уже говорил, принадлежащей XVII веку. Мораль такого подхода заключается в том, что если такой взгляд возможен относительно познания, то он возможен относительно эпистемологии, а также относительно философии, как она понимается с середины XIX века. История, которую я представляю здесь, о том, как философия-как-эпистемология достигла самоопределенности в современный период, звучит примерно так: Изобретение ума Декартом — сращение вер и ощущений с локковскими идеями — дало философии новые основания. Оно обеспечило поле исследования, которое выглядело «первичным» по отношению к предметам, над которыми размышляли античные философы. Далее, оно обеспечило поле исследования, в рамках которого стала возможной достоверность взглядов в противоположность мнениям. Локк сделал новоизобретенный «ум» Декарта предметом «науки о человеке» — моральной философии, противопоставленной естественной философии. Он сделал это, ошибочно полагая, что для «внутреннего пространства» аналогом ньютоновской механики частиц должно быть в каком-то смысле «[знакомство со своим собственным разумом]...(которое) весьма полезно, так как помогает направить наше мышление на исследование других вещей», и что это должно позволить нам каким-то образом «посмотреть, какими предметами наш разум способен заниматься, а какими нет».
Этот проект более тщательного изучения того, что мы можем знать и как мы можем знать путем изучения способа работы нашего ума, был окрещен «эпистемологией». Но до того, как проект мог достичь полного самоосознания, следовало найти способ сделать его неэмпирическим. Он должен был быть осуществлен чистым размышлением за столом, независимым от психологических открытий и способным к получению необходимых истин. Хотя Локк сохранил новое внутреннее пространство исследования — работая над изобретенным картезианским умом — он не смог удержаться в рамках картезианской достоверности. Локковский «сенсуализм» не был удачным кандидатом на вакантное место «царицы наук».
Кант направил философию по «безопасному пути науки», поместив внешнее пространство внутрь внутреннего пространства (пространства деятельности трансцендентального эго) и провозгласив затем картезианскую достоверность относительно внутреннего для законов того, что ранее мыслилось внешним. Он, таким образом, примирил картезианское утверждение, согласно которому мы можем иметь достоверность только в случае наших идей, с тем фактом, что мы уже имеем достоверность — априорное познание — о том, что не является идеями. Коперниканская революция была основана на представлении, что мы можем знать объекты априорно только в том случае, если мы «учреждаем» (constitute) их, и Кант никогда не был озабочен вопросом, как мы могли бы иметь аподиктическое знание этих «учреждающих занятий», поскольку предполагал, что картезианский привилегированный доступ позаботится об этом. Как только Кант заменил «физиологию человеческого рассудка прославленного мистера Локка» «мифическим предметом трансцендентальной психологии», (как сказал Стросон), «эпистемология» как дисциплина созрела окончательно.
Кроме того что «наука о человеке» была поднята с эмпирического до априорного уровня, Кант сделал три вещи, которые помогли философии-как-эпистемологии становлению самосознания и уверенности в себе. Во-первых, отождествив центральную проблему эпистемологии с отношением между двумя равно реальными, но не сводимыми друг к другу видами репрезентаций — «формальным» (концепции) и «материальным» (интуиции) — он сделал возможным рассмотрение новых эпистемологических проблем как продолжения проблем (проблем разума и универсалий), волновавших античных и средневековых философов. Тем самым он сделал возможным написание «истории философии» в современном стиле. Во-вторых, связав эпистемологию с моралью в проекте «разрушения разума для нахождения места для веры» (то есть разрушения ньютоновского детерминизма для того, чтобы дать место общему моральному сознанию), он возродил понятие «полной философской системы», в которой мораль «основывается» на чем-то менее противоречивом и более научном. В то время как каждая античная школа имела такой взгляд на человеческую добродетель, который был призван отвечать их представлению о мире, у Ньютона доминировали взгляды о мире. Кант позволил эпистемологии вступить в роль гаранта моральных предпосылок, которая раньше отводилась метафизике. В-третьих, учитывая все, что сказано о том, что «учреждено» нами, он сделал возможным рассмотрение эпистемологии как основополагающей дисциплины, умозрительной доктрины, способной к открытию «формальных» (или, в более поздней терминологии, «структурных», «феноменологических», «грамматических», «логических» или «концептуальных») характеристик любой области человеческой жизни. Таким образом, он позволил профессорам философии рассматривать себя в качестве председателей трибунала чистого разума, способных определять, остаются ли другие дисциплины в законных пределах, установленных «структурой» их предмета.
Рорти Р. Идея «теории познания». Эпистемология и самоимидж философии // Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – С. 97-102.
Вопросы для самоконтроля:
1. В какой исторический период встал вопрос об отделении философии от науки?
2. В чем видели предназначение своей философии ее новоевропейские родоначальники?
3. Как Гегель понимал место философии в познании? С чем связано такое истолкование?
4. Каким делом, с точки зрения автора, должна заниматься философия?
5. Покажите, как изменился предмет исследования в новоевропейской философии по сравнению с античной.
6. Покажите фундаментальную значимость шагов Канта по утверждению имиджа философии как эпистемологии.
7. Какие последствия для развития науки имели эти выводы основоположника немецкой классической философии?
С.Тулмин
 <…>В каждой из этих сфер - моральной и интеллектуальной-мы можем поставить вопрос о стандартах или критериях, определяющих оценочные суждения, и о влиянии этих "критериев" на реальную силу и следствия оценок. Поэтому полезно спросить себя, а не могут ли этика и философия науки походить друг на друга еще больше, чем это имеет место сейчас? <…>Анализируя моральные суждения, мы вполне можем принять предположение<…>, что хорошая система моральных оценок как целое должна иметь два измерения - социологическое и историческое: философия морали не должна упускать из виду исторической практики моральных оценок, так как понятие о "моральном" суждении различно для Исландии VIII века эпохи саг, Афин времен Перикла и для современного Оксфорда. <…>В соответствии с этим основная цель данной статьи состоит в том, чтобы прояснить вопросы, встающие в связи с выработкой альтернативного логическому эмпиризму аналитического подхода к "научной оценке". При этом мы исходим из того, что "экологическая" точка зрения принята в философии морали. В статье я попытаюсь показать, что философию науки следует понимать не как расширение математической логики, а как развитие истории научных идей.
<…>В каждой из этих сфер - моральной и интеллектуальной-мы можем поставить вопрос о стандартах или критериях, определяющих оценочные суждения, и о влиянии этих "критериев" на реальную силу и следствия оценок. Поэтому полезно спросить себя, а не могут ли этика и философия науки походить друг на друга еще больше, чем это имеет место сейчас? <…>Анализируя моральные суждения, мы вполне можем принять предположение<…>, что хорошая система моральных оценок как целое должна иметь два измерения - социологическое и историческое: философия морали не должна упускать из виду исторической практики моральных оценок, так как понятие о "моральном" суждении различно для Исландии VIII века эпохи саг, Афин времен Перикла и для современного Оксфорда. <…>В соответствии с этим основная цель данной статьи состоит в том, чтобы прояснить вопросы, встающие в связи с выработкой альтернативного логическому эмпиризму аналитического подхода к "научной оценке". При этом мы исходим из того, что "экологическая" точка зрения принята в философии морали. В статье я попытаюсь показать, что философию науки следует понимать не как расширение математической логики, а как развитие истории научных идей.
<…>Таким образом, значимость и приемлемость сравнительно узких понятий и концепций естествознания обусловлена значимостью и приемлемостью более широких понятий и концепций. В любой естественной науке наиболее общие предпосылки определяют базисные понятия и схемы рассуждений, используемые в каждой интерпретации данного частного аспекта природы, и, следовательно, они определяют фундаментальные вопросы, благодаря решению которых продвигаются вперед исследования в этой области. В качестве типичного примера структуры естественной науки можно привести классическую физику XIX века, в основе которой лежит целый ряд неявных предпосылок, например предположение о том, что локальное движение тел можно объяснять, абстрагируясь от их цвета и запаха, что "действия" и "силы" можно отождествлять с изменениями линейной скорости и т. п. Эти предположения являются фундаментальными и общими гипотезами или предпосылками, и от них зависит значение специальных понятий физики XIX столетия. Говоря как историк науки, я утверждаю, что такое понимание имеет глубокий смысл. Действительно, если устранить общие аксиомы ньютоновской динамики, то специальные утверждения о силах и их влиянии на движение не могут быть фальсифицированы: они просто отсутствуют в такой теории. Я думаю, Коллингвуд был прав, утверждая, что значимость и применимость, скажем, понятий физики XIX века зависят, как это можно показать, от определенных очень общих предположений, которые он назвал "абсолютными предпосылками". Частные динамические объяснения в классической физике предполагают ньютоновское понятие инерции: ньютоновское понятие инерции предполагает в свою очередь идею инерциального принципа некоторого рода: дальше этого мы едва ли можем пойти. Такая общая идея. как идея инерции, является для динамики "фундаментальной" в том смысле, что без некоторого идеала инерции динамика не смогла бы стронуться с места. Коллингвуд был, несомненно, прав также и в другом своем утверждении, а именно что решающие интеллектуальные переходы в науке связаны с изменением базисных предположений. При изучении этих переходов следует обращать внимание на их историческую основу, то есть на тот процесс, в котором идеалы объяснения, или абсолютные предпосылки, сменяют друг друга. <…>В сущности, подход Коллингвуда предполагает невозможность полной рациональности концептуальных изменений, и это следует из того, что он тяготел к причинному пониманию таких изменений. Однако в любом случае Коллингвуд заслуживает уважения за то, что он ясно сформулировал тот вопрос относительно концептуальной эволюции, который до сих пор не получил ответа, а именно: "Каким образом-при каких обстоятельствах и благодаря какому процессу-наши фундаментальные понятия сменяют друг друга?"
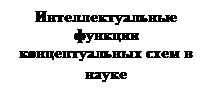 <…>Концепция Куна опирается на контраст между двумя типами научного изменения. В течение длительных периодов "нормальной науки", утверждает он, в научной области, скажем в физике, господствует авторитет главенствующей теории, или "парадигмы": для исследователей данной области она определяет, какие вопросы могут здесь возникать, какие интерпретации являются законными и т. п., и ученые, работающие в рамках соответствующей "парадигмы", образуют некоторую "школу", очень похожую на художественные школы. Эти "нормальные" фазы прерываются внезапными и радикальными трансформациями-Кун называет их "научными революциями",-во время которых одна главенствующая теория (например, механика Галилея и Ньютона) заменяется другой (например, механикой Эйнштейна и Гейзенберга). <…>Иногда он рассуждает так: интеллектуальная функция фундаментальной концептуальной схемы, такой, как динамическая система "Математических начал натуральной философии" Ньютона, состоит в том, чтобы детерминировать, какого типа теории допустимы, какие вопросы осмысленны и какие интерпретации приемлемы для физиков, работающих в ньютоновской традиции, и до тех пор, пока эта теория сохраняет свой интеллектуальный авторитет, физики могут рассматривать ее принципы как высшую теоретическую инстанцию, то есть как "парадигму". (С падением авторитета этой теории все здание физики должно быть перестроено на новых основаниях.) В других местах Кун рассуждает следующим образом: создатели некоторой теоретической картины мира видят больше, чем их наследники и эпигоны. Последним свойственна определенная узость мышления, выражающаяся в том, что они считают осмысленными только те вопросы, законными-лишь те интерпретации и приемлемыми-только такие способы объяснения, которые санкционированы примерами создателей той школы, в русле которой они работают. При этом оказывается, что этот недостаток является очень полезным, ибо власть авторитета (например, Ньютона в его "Оптике") задает основные направления исследований, что очень удобно для ученых меньшего масштаба. (Заметим, что в приведенных рассуждениях изложены, во-первых, философская интерпретация, согласно которой сама теория представляет собой парадигму и обладает авторитетом, и, во-вторых, социологическая интерпретация, которая считает парадигмой сочинения, излагающие теорию, например "Оптику" Ньютона, и авторитет рассматривает как личное влияние определенного человека, а не влияние его идей.)
<…>Концепция Куна опирается на контраст между двумя типами научного изменения. В течение длительных периодов "нормальной науки", утверждает он, в научной области, скажем в физике, господствует авторитет главенствующей теории, или "парадигмы": для исследователей данной области она определяет, какие вопросы могут здесь возникать, какие интерпретации являются законными и т. п., и ученые, работающие в рамках соответствующей "парадигмы", образуют некоторую "школу", очень похожую на художественные школы. Эти "нормальные" фазы прерываются внезапными и радикальными трансформациями-Кун называет их "научными революциями",-во время которых одна главенствующая теория (например, механика Галилея и Ньютона) заменяется другой (например, механикой Эйнштейна и Гейзенберга). <…>Иногда он рассуждает так: интеллектуальная функция фундаментальной концептуальной схемы, такой, как динамическая система "Математических начал натуральной философии" Ньютона, состоит в том, чтобы детерминировать, какого типа теории допустимы, какие вопросы осмысленны и какие интерпретации приемлемы для физиков, работающих в ньютоновской традиции, и до тех пор, пока эта теория сохраняет свой интеллектуальный авторитет, физики могут рассматривать ее принципы как высшую теоретическую инстанцию, то есть как "парадигму". (С падением авторитета этой теории все здание физики должно быть перестроено на новых основаниях.) В других местах Кун рассуждает следующим образом: создатели некоторой теоретической картины мира видят больше, чем их наследники и эпигоны. Последним свойственна определенная узость мышления, выражающаяся в том, что они считают осмысленными только те вопросы, законными-лишь те интерпретации и приемлемыми-только такие способы объяснения, которые санкционированы примерами создателей той школы, в русле которой они работают. При этом оказывается, что этот недостаток является очень полезным, ибо власть авторитета (например, Ньютона в его "Оптике") задает основные направления исследований, что очень удобно для ученых меньшего масштаба. (Заметим, что в приведенных рассуждениях изложены, во-первых, философская интерпретация, согласно которой сама теория представляет собой парадигму и обладает авторитетом, и, во-вторых, социологическая интерпретация, которая считает парадигмой сочинения, излагающие теорию, например "Оптику" Ньютона, и авторитет рассматривает как личное влияние определенного человека, а не влияние его идей.)
<…>В его книге различие между "нормальным" и "революционным" изменениями в науке было ясным, четким и хорошо определенным. "Научная революция", с точки зрения Куна, настолько глубоко и полно изменяет интеллектуальные средства, что ученые, работающие в рамках новой парадигмы, не будут иметь ни одного теоретического понятия, которое было бы общим для них и их коллег, все еще придерживающихся старой парадигмы; поэтому сторонники разных парадигм не смогут говорить друг с другом об их общей области исследования и будут "видеть" мир совершенно по-разному. Напротив, в период "нормальной" науки не существует такого взаимного непонимания или радикальной трансформации схем нашего опыта: нормальная наука существенно едина и ученые заняты работой в рамках общей для всех структуры фундаментальных понятий.
<…>Вместо прямого противопоставления "научной революции" "нормальному" научному развитию, что было центральным пунктом первоначальной куновской концепции, новые микрореволюции становятся теперь единицами изменения и в нормальной, и в революционной фазах развития науки. Однако, как только мы принимаем это, мы сразу же должны отказаться от истолкования научных революций как настолько глубоких и радикальных, что они не могут быть объяснены ни в старой, ни в новой системе мышления.
 <…>Однако после работ Куна и Коллингвуда наша исходная проблема сохранилась: каково точное место рационального выбора в процессе фундаментального концептуального развития. <…>нужно сделать абсолютно ясным, в каком именно смысле микрореволюции должны рассматриваться как единицы изменения. В заключительной части статьи я постараюсь показать, что анализ концептуальных изменений можно сделать боле
<…>Однако после работ Куна и Коллингвуда наша исходная проблема сохранилась: каково точное место рационального выбора в процессе фундаментального концептуального развития. <…>нужно сделать абсолютно ясным, в каком именно смысле микрореволюции должны рассматриваться как единицы изменения. В заключительной части статьи я постараюсь показать, что анализ концептуальных изменений можно сделать боле



 Слово натурфилософия <…> пользуется худой славой. Оно вызывает в нашей памяти умственное движение, господствовавшее в Германии сто лет тому назад; во главе этого движения стоял философ Шеллинг. <…> господство натурфилософии продолжалось недолго; неоспоримое господство в целом – самое большое двадцать лет. Особенно естествоиспытатели, для которых главным образом и предназначалась натурфилософия, скоро и совершенно отвернулись от нее, и затем на ее долю выпало такое же страстное осуждение, каким раньше было ее превознесение. Чтобы дать представление о чувствах, которые она возбуждала в своих бывших приверженцах, достаточно привести слова Либиха, которыми он изображает лишения в области натурфилософии: «И я пережил этот период, столь богатый словами и идеями, столь богатый истинным знанием и основательным изучением, он стоил мне двух дорогих лет моей жизни; не могу описать ужаса и отвращения, испытанных мною, когда я очнулся от этого опьянения».
Слово натурфилософия <…> пользуется худой славой. Оно вызывает в нашей памяти умственное движение, господствовавшее в Германии сто лет тому назад; во главе этого движения стоял философ Шеллинг. <…> господство натурфилософии продолжалось недолго; неоспоримое господство в целом – самое большое двадцать лет. Особенно естествоиспытатели, для которых главным образом и предназначалась натурфилософия, скоро и совершенно отвернулись от нее, и затем на ее долю выпало такое же страстное осуждение, каким раньше было ее превознесение. Чтобы дать представление о чувствах, которые она возбуждала в своих бывших приверженцах, достаточно привести слова Либиха, которыми он изображает лишения в области натурфилософии: «И я пережил этот период, столь богатый словами и идеями, столь богатый истинным знанием и основательным изучением, он стоил мне двух дорогих лет моей жизни; не могу описать ужаса и отвращения, испытанных мною, когда я очнулся от этого опьянения». Чтобы убедительнее представить вам ошибку, при этом совершенную, я вам расскажу анекдот, сложившийся в свое время в насмешку над немцами вследствие господствовавшего у них натурфилософского мировоззрения. Речь идет о том, как поведут себя англичанин, француз и немец, если им будет предложена задача характеризовать свойства верблюда. Англичанин, говорится в этой истории, возьмет ружье, отправится в Африку, застрелит верблюда, отдаст набить из него чучело и поставит его в музей. Француз пойдет в парижский Jardin d’acclimatation и будет там изучать верблюда, а если бы такого там совсем не оказалось, он станет вообще сомневаться в его существовании и, во всяком случае, признает за ним чрезвычайно малое значение. Немцу же достаточно будет пойти в свой кабинет, где он конструирует свойства верблюда из глубины своего духа. Вот, следовательно, в чем состояла ошибка, сделанная натурфилософами, которую мы должны всеми силами избегать. Они пытались вывести опыт из мышления; наше мышление, напротив, будет всюду определяться опытом.
Чтобы убедительнее представить вам ошибку, при этом совершенную, я вам расскажу анекдот, сложившийся в свое время в насмешку над немцами вследствие господствовавшего у них натурфилософского мировоззрения. Речь идет о том, как поведут себя англичанин, француз и немец, если им будет предложена задача характеризовать свойства верблюда. Англичанин, говорится в этой истории, возьмет ружье, отправится в Африку, застрелит верблюда, отдаст набить из него чучело и поставит его в музей. Француз пойдет в парижский Jardin d’acclimatation и будет там изучать верблюда, а если бы такого там совсем не оказалось, он станет вообще сомневаться в его существовании и, во всяком случае, признает за ним чрезвычайно малое значение. Немцу же достаточно будет пойти в свой кабинет, где он конструирует свойства верблюда из глубины своего духа. Вот, следовательно, в чем состояла ошибка, сделанная натурфилософами, которую мы должны всеми силами избегать. Они пытались вывести опыт из мышления; наше мышление, напротив, будет всюду определяться опытом. Постепенное отделение философии от науки стало возможным благодаря представлению, согласно которому «сердцем» философии служит «теория познания», теория, отличная от наук, потому что она была их основанием. Это представление восходит, по крайней мере, к декартовским Размышлениям и Трактату об усовершенствовании разума Спинозы, но достигает самоосознания только с Кантом. Это представление не отражалось на структуре академических институтов, на неизменном, нерефлективном самоописании профессоров философии, пока не наступил XIX век. Без такой идеи — «теории познания» — трудно представить себе, чем была бы «философия» в век современной науки. Метафизика — рассматриваемая в качестве описания того, как соединить в одно целое небеса и землю, — была заменена физикой. Секуляризация моральной мысли, которая доминировала в мыслях европейских интеллектуалов в XVII и XVIII веках, не рассматривалась в качестве поисков новых метафизических оснований, которые должны были занять место атеистической метафизики. Кант, однако, ухитрился трансформировать старое представление о философии — метафизики как «царицы наук» (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие наиболее базисной дисциплины — дисциплины оснований. Философия стала «первичной» уже не в смысле «наивысочайшей», а в смысле «лежащей в основе». Как только появился Кант, историки философии смогли заставить мыслителей XVII и XVIII веков пытаться отвечать на вопрос: «Как возможно наше познание?», и даже озадачили этим вопросом древних.
Постепенное отделение философии от науки стало возможным благодаря представлению, согласно которому «сердцем» философии служит «теория познания», теория, отличная от наук, потому что она была их основанием. Это представление восходит, по крайней мере, к декартовским Размышлениям и Трактату об усовершенствовании разума Спинозы, но достигает самоосознания только с Кантом. Это представление не отражалось на структуре академических институтов, на неизменном, нерефлективном самоописании профессоров философии, пока не наступил XIX век. Без такой идеи — «теории познания» — трудно представить себе, чем была бы «философия» в век современной науки. Метафизика — рассматриваемая в качестве описания того, как соединить в одно целое небеса и землю, — была заменена физикой. Секуляризация моральной мысли, которая доминировала в мыслях европейских интеллектуалов в XVII и XVIII веках, не рассматривалась в качестве поисков новых метафизических оснований, которые должны были занять место атеистической метафизики. Кант, однако, ухитрился трансформировать старое представление о философии — метафизики как «царицы наук» (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие наиболее базисной дисциплины — дисциплины оснований. Философия стала «первичной» уже не в смысле «наивысочайшей», а в смысле «лежащей в основе». Как только появился Кант, историки философии смогли заставить мыслителей XVII и XVIII веков пытаться отвечать на вопрос: «Как возможно наше познание?», и даже озадачили этим вопросом древних.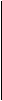 завершает и одновременно и поглощает все остальные дисциплины, но не служит для них основанием. Оно также сделало философию слишком популярной, слишком интересной, слишком важной, чтобы та стала по-настоящему профессиональной; оно сподвигло профессоров философии на то, чтобы олицетворять Мировой Дух, вместо того чтобы просто заниматься своим Fach. Очерк Целлера, который <…> «первым поднял термин «Erkеnntnistheorie» до его нынешнего достойного положения», заканчивается словами, что те, кто верит, что мы можем вывести все научные дисциплины из нашего собственного духа, могут продолжать идти вслед за Гегелем, но более здравый человек должен осознавать, что собственная задача философии (раз отвергнуто понятие вещи-в-себе, а с ним и искус впадания в идеализм) состоит в том, чтобы установить объективность тех утверждений знания, которые делаются в различных эмпирических дисциплинах. Это будет сделано подходящим априорным вкладом, вносимым в восприятие. Erkenntnisthе orie, таким образом, появляется в 1862 году как способ избежать и «идеализм», и «спекуляцию». Пятнадцатью годами позже Целлер замечает, что нет необходимости больше говорить о специальной роли Erkenntnistheorie, поскольку она сейчас общепринята «особенно среди наших молодых коллег». Тридцатью годами позже Уильям Джеймс будет оплакивать мрачный темперамент наших лысых молодых докторов философии, вгоняющих друг друга в тоску и скуку, пишущих ужасные обзоры литературы в Philosophical Review и другие журналы, пресытившихся «справочной литературой, и никогда не путающих «Эстетику» с «Erkеnntnisthеoriе».
завершает и одновременно и поглощает все остальные дисциплины, но не служит для них основанием. Оно также сделало философию слишком популярной, слишком интересной, слишком важной, чтобы та стала по-настоящему профессиональной; оно сподвигло профессоров философии на то, чтобы олицетворять Мировой Дух, вместо того чтобы просто заниматься своим Fach. Очерк Целлера, который <…> «первым поднял термин «Erkеnntnistheorie» до его нынешнего достойного положения», заканчивается словами, что те, кто верит, что мы можем вывести все научные дисциплины из нашего собственного духа, могут продолжать идти вслед за Гегелем, но более здравый человек должен осознавать, что собственная задача философии (раз отвергнуто понятие вещи-в-себе, а с ним и искус впадания в идеализм) состоит в том, чтобы установить объективность тех утверждений знания, которые делаются в различных эмпирических дисциплинах. Это будет сделано подходящим априорным вкладом, вносимым в восприятие. Erkenntnisthе orie, таким образом, появляется в 1862 году как способ избежать и «идеализм», и «спекуляцию». Пятнадцатью годами позже Целлер замечает, что нет необходимости больше говорить о специальной роли Erkenntnistheorie, поскольку она сейчас общепринята «особенно среди наших молодых коллег». Тридцатью годами позже Уильям Джеймс будет оплакивать мрачный темперамент наших лысых молодых докторов философии, вгоняющих друг друга в тоску и скуку, пишущих ужасные обзоры литературы в Philosophical Review и другие журналы, пресытившихся «справочной литературой, и никогда не путающих «Эстетику» с «Erkеnntnisthеoriе». <…>В каждой из этих сфер - моральной и интеллектуальной-мы можем поставить вопрос о стандартах или критериях, определяющих оценочные суждения, и о влиянии этих "критериев" на реальную силу и следствия оценок. Поэтому полезно спросить себя, а не могут ли этика и философия науки походить друг на друга еще больше, чем это имеет место сейчас? <…>Анализируя моральные суждения, мы вполне можем принять предположение<…>, что хорошая система моральных оценок как целое должна иметь два измерения - социологическое и историческое: философия морали не должна упускать из виду исторической практики моральных оценок, так как понятие о "моральном" суждении различно для Исландии VIII века эпохи саг, Афин времен Перикла и для современного Оксфорда. <…>В соответствии с этим основная цель данной статьи состоит в том, чтобы прояснить вопросы, встающие в связи с выработкой альтернативного логическому эмпиризму аналитического подхода к "научной оценке". При этом мы исходим из того, что "экологическая" точка зрения принята в философии морали. В статье я попытаюсь показать, что философию науки следует понимать не как расширение математической логики, а как развитие истории научных идей.
<…>В каждой из этих сфер - моральной и интеллектуальной-мы можем поставить вопрос о стандартах или критериях, определяющих оценочные суждения, и о влиянии этих "критериев" на реальную силу и следствия оценок. Поэтому полезно спросить себя, а не могут ли этика и философия науки походить друг на друга еще больше, чем это имеет место сейчас? <…>Анализируя моральные суждения, мы вполне можем принять предположение<…>, что хорошая система моральных оценок как целое должна иметь два измерения - социологическое и историческое: философия морали не должна упускать из виду исторической практики моральных оценок, так как понятие о "моральном" суждении различно для Исландии VIII века эпохи саг, Афин времен Перикла и для современного Оксфорда. <…>В соответствии с этим основная цель данной статьи состоит в том, чтобы прояснить вопросы, встающие в связи с выработкой альтернативного логическому эмпиризму аналитического подхода к "научной оценке". При этом мы исходим из того, что "экологическая" точка зрения принята в философии морали. В статье я попытаюсь показать, что философию науки следует понимать не как расширение математической логики, а как развитие истории научных идей.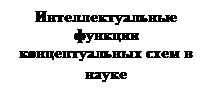 <…>Концепция Куна опирается на контраст между двумя типами научного изменения. В течение длительных периодов "нормальной науки", утверждает он, в научной области, скажем в физике, господствует авторитет главенствующей теории, или "парадигмы": для исследователей данной области она определяет, какие вопросы могут здесь возникать, какие интерпретации являются законными и т. п., и ученые, работающие в рамках соответствующей "парадигмы", образуют некоторую "школу", очень похожую на художественные школы. Эти "нормальные" фазы прерываются внезапными и радикальными трансформациями-Кун называет их "научными революциями",-во время которых одна главенствующая теория (например, механика Галилея и Ньютона) заменяется другой (например, механикой Эйнштейна и Гейзенберга). <…>Иногда он рассуждает так: интеллектуальная функция фундаментальной концептуальной схемы, такой, как динамическая система "Математических начал натуральной философии" Ньютона, состоит в том, чтобы детерминировать, какого типа теории допустимы, какие вопросы осмысленны и какие интерпретации приемлемы для физиков, работающих в ньютоновской традиции, и до тех пор, пока эта теория сохраняет свой интеллектуальный авторитет, физики могут рассматривать ее принципы как высшую теоретическую инстанцию, то есть как "парадигму". (С падением авторитета этой теории все здание физики должно быть перестроено на новых основаниях.) В других местах Кун рассуждает следующим образом: создатели некоторой теоретической картины мира видят больше, чем их наследники и эпигоны. Последним свойственна определенная узость мышления, выражающаяся в том, что они считают осмысленными только те вопросы, законными-лишь те интерпретации и приемлемыми-только такие способы объяснения, которые санкционированы примерами создателей той школы, в русле которой они работают. При этом оказывается, что этот недостаток является очень полезным, ибо власть авторитета (например, Ньютона в его "Оптике") задает основные направления исследований, что очень удобно для ученых меньшего масштаба. (Заметим, что в приведенных рассуждениях изложены, во-первых, философская интерпретация, согласно которой сама теория представляет собой парадигму и обладает авторитетом, и, во-вторых, социологическая интерпретация, которая считает парадигмой сочинения, излагающие теорию, например "Оптику" Ньютона, и авторитет рассматривает как личное влияние определенного человека, а не влияние его идей.)
<…>Концепция Куна опирается на контраст между двумя типами научного изменения. В течение длительных периодов "нормальной науки", утверждает он, в научной области, скажем в физике, господствует авторитет главенствующей теории, или "парадигмы": для исследователей данной области она определяет, какие вопросы могут здесь возникать, какие интерпретации являются законными и т. п., и ученые, работающие в рамках соответствующей "парадигмы", образуют некоторую "школу", очень похожую на художественные школы. Эти "нормальные" фазы прерываются внезапными и радикальными трансформациями-Кун называет их "научными революциями",-во время которых одна главенствующая теория (например, механика Галилея и Ньютона) заменяется другой (например, механикой Эйнштейна и Гейзенберга). <…>Иногда он рассуждает так: интеллектуальная функция фундаментальной концептуальной схемы, такой, как динамическая система "Математических начал натуральной философии" Ньютона, состоит в том, чтобы детерминировать, какого типа теории допустимы, какие вопросы осмысленны и какие интерпретации приемлемы для физиков, работающих в ньютоновской традиции, и до тех пор, пока эта теория сохраняет свой интеллектуальный авторитет, физики могут рассматривать ее принципы как высшую теоретическую инстанцию, то есть как "парадигму". (С падением авторитета этой теории все здание физики должно быть перестроено на новых основаниях.) В других местах Кун рассуждает следующим образом: создатели некоторой теоретической картины мира видят больше, чем их наследники и эпигоны. Последним свойственна определенная узость мышления, выражающаяся в том, что они считают осмысленными только те вопросы, законными-лишь те интерпретации и приемлемыми-только такие способы объяснения, которые санкционированы примерами создателей той школы, в русле которой они работают. При этом оказывается, что этот недостаток является очень полезным, ибо власть авторитета (например, Ньютона в его "Оптике") задает основные направления исследований, что очень удобно для ученых меньшего масштаба. (Заметим, что в приведенных рассуждениях изложены, во-первых, философская интерпретация, согласно которой сама теория представляет собой парадигму и обладает авторитетом, и, во-вторых, социологическая интерпретация, которая считает парадигмой сочинения, излагающие теорию, например "Оптику" Ньютона, и авторитет рассматривает как личное влияние определенного человека, а не влияние его идей.) <…>Однако после работ Куна и Коллингвуда наша исходная проблема сохранилась: каково точное место рационального выбора в процессе фундаментального концептуального развития. <…>нужно сделать абсолютно ясным, в каком именно смысле микрореволюции должны рассматриваться как единицы изменения. В заключительной части статьи я постараюсь показать, что анализ концептуальных изменений можно сделать боле
<…>Однако после работ Куна и Коллингвуда наша исходная проблема сохранилась: каково точное место рационального выбора в процессе фундаментального концептуального развития. <…>нужно сделать абсолютно ясным, в каком именно смысле микрореволюции должны рассматриваться как единицы изменения. В заключительной части статьи я постараюсь показать, что анализ концептуальных изменений можно сделать боле


