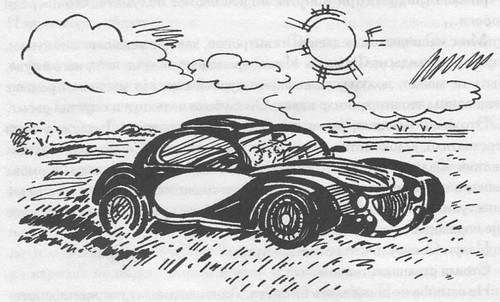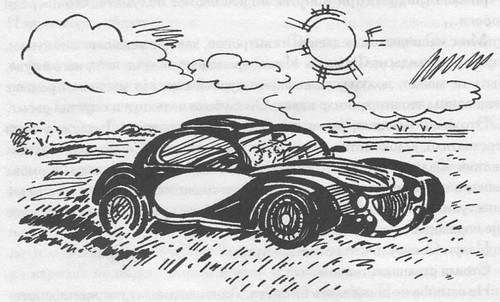
Черная. С лимонно-желтыми дверями. Таких длинных я никогда не видел. Стоит себе скромно посреди поля, как собака, которой велено ждать хозяина. В те времена в Израиле не было таких больших машин. Такой, как эта, — точно. Новая, блестящая, потрясающая. Я подумал, что это «роллс-ройс», но оказалось еще круче.
— Прошу, я уже открываю двери для господина Файерберга! — Он проворно забежал вперед и распахнул мне дверь.
Я скользнул внутрь и присел на шикарное, обтянутое бархатом сиденье, упругое и мягкое. Когда-то у нас с отцом была машина, мы вместе ее ремонтировали. «Амбер пульман» сороковых годов, как у королевы Елизаветы и генерала Монтгомери — на такой он мотался по Северной Африке. Мы звали ее Жемчужиной. Отец нашел ее среди металлолома, разбитую и покореженную, и много лет подряд мало-помалу терпеливо доводил до ума, и я, когда подрос, присоединился. Потом нам пришлось отдать ее — это очень печальная история. Но по сравнению с машиной Феликса наш «амбер» — просто рухлядь. Я и сам в те минуты вряд ли выглядел достойным такого авто.
Перепугался я здорово.
Габи говорила, что по международной десятибалльной шкале ОиХП (Озорных и Хулиганских Поступков) имени Макса и Морица[7] я тяну на девять баллов. А если мое имя упомянуть в учительской, дюжина учителей тут же встанет на дыбы и с яростным ржанием забьет копытами в воздухе. И она не сильно преувеличивала. Но то, что Феликс вытворил в локомотиве, как обошелся с людьми в купе и машинистом, — это было не просто озорство, это были взрослые игры, что-то из мира пистолетов, триллеров и настоящих преступников. А я лишь плыл за ним, как пузырек воздуха во время грозы.
Под восторженной рукой Феликса машина встрепенулась, скрипнула колесами. Облако пыли взметнулось вокруг нас, и мы вырвались из него, черные и прекрасные.
Внутри тоже все было новенькое и начищенное. Бархатная малиновая обивка, отделанная красным деревом приборная доска. Между передними и задними сиденьями стеклянная перегородка, на окнах тонкие шелковые занавески. Я впервые оказался в такой машине. И в захвате поезда участвовал впервые. Впервые со мной произошло столько «впервые» за один день.
— Нажимай, — сказал Феликс и показал пальцем на черную кнопку. Я нажал. В стене открылось подсвеченное углубление. Там обнаружилось блюдо, а на нем, под прозрачной пленкой, ломтики помидора, дыни и еще какого-то фрукта — теперь я думаю, что это был ананас, но в те времена ананасы росли только в книжках и консервных банках. По краю блюда шла золотая каемка, такая же, как на циферблате Феликсовых часов. Я провел по ней пальцем — впервые в жизни дотронулся до настоящего золота.
— Я думал, что будешь голодный. Подготовил тебе бутерброд. С сыром, как ты любишь, а?
Я слабо кивнул. Бутерброд после нападения на поезд — это было сильно.
— Ты отвезешь меня в Хайфу? — спросил я.
— Ого, у тебя нет терпения! У нас для тебя есть программа получше!
— У вас — это у вас с папой?
— О да! У нас двоих. Мы оба изготовили тебе подарок. Каждый со своей стороны.
Несколько секунд мы ехали молча. Я не совсем понял его ответ. У меня были сотни вопросов, я не знал, с какого начать, все казалось внезапным и невозможным. Как взять в толк, что отец согласился устроить для меня нападение на поезд, да еще вооруженное! Хорошо, допустим, отец так увлекся первоначальной скромной идеей Габи (не очень логично, но допустим), что начал развивать ее и придумал все это детективное кино — но Габи-то почему не остановила его? «Приключения, от которых у тебя волосы встанут дыбом», — написал он мне. Насколько дыбом? То, что происходит, совершенно не предназначено для моего возраста! Это неправильно! Это опасно!
Бисквитный завод, значит. Может, отец уже и сам понял, что чересчур увлекся. Колесо ужаса прокатилось по мне. Может, все идет не так, как надо. Я совершаю непоправимую ошибку. Но в чем я ошибаюсь?
— Если ты боишься, я могу возвращать тебя домой прямо сейчас, — проговорил Феликс.
— В Иерусалим?
— Один час. Это авто «бугатти», самый быстрый авто в стране Израиля.
— И на этом игра закончится?
— Но если ты хочешь, я могу привозить тебя туда только сегодня вечером. А если ты хочешь еще — можно и завтра вечером. Ты решаешь — я делаю. Есть, сэр!
И он отдал честь.
— Так папа сказал?
— Тебе скоро бар-мицва, юный господин Файерберг, бар-мицва — это уже большой!
Не такой уж я большой. Я, правда, уже несколько раз выкуривал тайком по целой сигарете — по-настоящему, а не просто дым пускал, и целовался с тремя девчонками из класса, пусть и просто на спор, так что Смадар Кантор сказала потом своему курятнику, что я опасный человек и играю чувствами. Но сейчас, уносясь в черной машине Феликса от поезда, испуганно застывшего посреди поля, я сознавал, что я всего лишь тринадцатилетний мальчишка. Мне и тринадцать-то исполнится только в субботу. Пожалуй, это приключение великовато для меня.
Те последние минуты в поезде снова нахлынули на меня: как машинист увидел пистолет в руке Феликса и глаза у него чуть не выпали из орбит и как Феликс молниеносно оборвал телефонный провод, чтобы машинист не смог позвать на помощь. И еще кое-что: когда мы уже сошли с поезда, Феликс достал из кармана пиджака какой-то небольшой предмет, вроде кольца, и подбросил его в воздух. Я успел заметить только, как это что-то блеснуло на солнце, и услышал металлический звон, как от упавшей монеты.
Мы ехали молча, поднимая колесами пыль, но в салоне было чисто и прохладно. Мы свернули на узкую, почти с наш «бугатти» по ширине, дорогу. Проехали деревню или, может, кибуц — я не обратил внимания. Я нарочно перестал соблюдать все, чему учил меня отец: не читал табличек, не делал для себя заметок, не засекал по спидометру, сколько километров мы проехали, не составлял в голове аббревиатур, чтобы лучше запомнить, куда мы свернули… Я злился на отца и их с Габи сумасбродные выдумки. Он предал меня — так и я его предам. Что это за подарок на бар-мицву? Подарок должен радовать, а не пугать!
— Хочешь домой, а?
— Нет!
Но это я буркнул сквозь зубы, и Феликс взглянул на меня и замедлил ход, готовый вот-вот застыть посреди дороги в ожидании.
Слушай, сказал я себе самому. Тебе сейчас нелегко. Ты вот-вот сдашься. Но потерпи еще чуть-чуть. Тебе пришлось пережить серьезное потрясение. Ты, конечно, напуган — но, с другой стороны, ничего страшного с тобой не произошло. Ты едешь на самой прекрасной машине в мире. Ты ешь ананас (кажется) с позолоченной тарелки. Этот Феликс может показать тебе чудеса, каких никогда еще не доводилось видеть мальчишке твоих лет. Настоящие чудеса, а не те, которые ты сам себе нафантазировал. Так что прекрати ныть. Улыбнись. Не обязательно быть героем, будь собой, как советовала тебе Габи в письме.
Иногда я проводил с собой такие терапевтические беседы. Для них имелся специальный голос, настойчивый и грубый, правда, внутренний, и говорить приходилось короткими энергичными фразами, похожими на пароли или отчеты по рации. Иногда помогало.
Факт.
Я потянулся — в этой машине можно было спокойно вытянуть ноги во всю длину. Набросился на бутерброд, осторожно попробовал ананас, и вкус его растекся по языку. Я расправил плечи. Начал даже насвистывать, чтобы окончательно успокоиться. Могу сказать точно — после этого ананаса что-то во мне переменилось.
Феликс молча вел машину. Время от времени он бросал на меня в зеркало задумчивый взгляд — точно спрашивал себя, не обманул ли его мой отец и действительно ли я достаточно взрослый и смелый для того, что он задумал. Я уверенно посмотрел на него. Как отец учил: уверенный взгляд — основа безопасности. Это как поиграть мускулами. Очень полезный прием для тощего и невысокого мальчишки вроде меня. Даже на Феликса подействовало. Он улыбнулся, и я улыбнулся в ответ. Он нажал на какую-то кнопку, и прямо надо мной медленно открылся люк, и я увидел сверху голубое небо. Ну, про «впервые» вы уже и так все поняли.
Воздух снаружи был ласковым и теплым. Я без спросу включил радио, оттуда раздалась американская музыка, и я почувствовал себя американцем. Скорчил соответствующую рожу. Феликс захохотал, закинув голову. Ну вот, наконец-то нашелся взрослый, которого я могу рассмешить!
— А у нас есть «амбер пульман», — крикнул я Феликсу.
— О! Фантастический авто! Мотор в шесть цилиндров, а?
— Да! И такой же черный.
— «Амбер пульман» всегда черный! Только черный!
Вообще-то у нашего крылья с белыми полосами. Потому что его сделали в Англии во время Второй мировой войны. Для маскировки улицы были затемнены, поэтому машине и нарисовали эти полосы, чтобы прохожие могли различить ее в темноте.
— Отец нашел ее на свалке! Еще до того, как я родился.
— На свалке? Как «амбер» оказывался на свалке?
— Отец думает, он принадлежал британскому офицеру времен мандата, может, тот ехал пьяный и разбил его.
— Йес, сэр! Очень может быть! Британцы любили выпивать! Джонни всегда пьян!
— Мы с отцом чиним ее каждый вторник.
Тут я осекся. Чинили. Когда-то.
— Это да! Это важно! Такой авто надо чинить все время! Вы часто поезжаете на этом авто?
— Да… Но только по двору. До забора и обратно. Папа боится на ней выезжать.
Боялся. Ездили. Чинили. Все в прошедшем времени.
— Мы зовем ее Жемчужиной.
Звали. Отец звал. «Пойдем, Нуну, наводить блеск на нашу Жемчужину». И мы брали ведро, и тряпки, и особое мыло — детский шампунь и намывали ее до блеска. И целыми часами возимся с ней, изредка перекидываясь словом-другим, а потом заводим ее и вслушиваемся в урчание мотора, как в музыку. Как отец умеет играть на этом инструменте, как Жемчужина слушается его, мягко, будто колеса у нее из бархата, проезжая свои три метра до ворот и обратно! Как-нибудь мы не пожалеем денег и пригласим к ней Роджера из Нагарии, главного специалиста по старым машинам, пусть поменяет ей тормозные шланги.
От этих воспоминаний я опять раскис. Сколько мы в нее вложили! Однажды даже побывали в Тверии у коллекционера, чтобы купить ей специальные шины для езды по пустыне. Но теперь все это в прошлом. И по сей день меня терзает раскаяние. Отец, кажется, постарел на десять лет, когда ему пришлось с ней расстаться.
— Но почему вы не съездите на своем авто по улице? По дороге? — не мог взять в толк Феликс.
— Отец говорит, что негоже такой машине ездить по жалким иерусалимским улицам. Во дворе ей хорошо, там она под присмотром.
— О! — усмехнулся Феликс. — «Амбер» может ехать даже по пустыне! А Иерусалим, выходит, ему опасно?
— Не знаю.
Мне тоже иногда казалось странным, что наш «амбер» никогда не выезжает со двора. Во дворе он был будто в клетке. Маутнер вот не побоялся на нем выехать, хотя и не умел — в первый же раз, выбравшись за город, не справился с управлением и перевернулся. Соседям Маутнер рассказывал, что как только выехал на шоссе, машина взбунтовалась, как живая, неслась вперед, как он ни жал на тормоза, на этой машине лежит проклятие, уверял он, а отец только горько улыбался, будто заранее знал. Даже вспоминать больно. Маутнер продал Жемчужину торговцу подержанными автомобилями, и с тех пор мы ничего о ней не слышали. И между собой не говорили о ней. Умерла так умерла.
— А это «бугатти», — снова заговорил Феликс. — Ты не слыхивал про «бугатти»?
Пришлось признаться, что нет, не слышал.
— Во всем мире есть только шесть таковых машин, их делает один гений, творец, его зовут Этторе Бугатти, итальянец и француз. И каждый авто — его особый проект. Специаль!
Я молча оглядывал произведение искусства, в котором мне выпала честь оказаться.
— И он, Бугатти, сам решает, для кого продает каждый авто из шести. И он решал: «бугатти» подходит только для короля! И первый «бугатти» продавал королю Каролю из Румынии, и я еще видел, как он выезжал!
— А этот автомобиль? Он тоже какого-нибудь короля?
— Этот? Этот авто — короля Файерберга Второго! Специаль для Феликса этот авто доставляли в страну. Месяц он плыл на корабле в Израиль! Большой путь!
— Для меня? — растерялся я. — Ты привез эту машину для меня?
— Ну, ну, прошу извинения: это не в подарок. Это только для сегодня. Для того чтобы было прекрасно. Чтобы делать нашу экскурсию специаль!
— Ради одного дня ты привез сюда машину? Ради меня?
— Ну, подумаешь, дело. Кое-кто в Италии должен Феликсу долг чести. И еще один джентльмен во Франции, старый компаньон. Они уже думали, Феликс умер. Может, десять лет обо мне не слышали. И вдруг приходит звонок: тррррр! Скорей-скорей! Собираем всех старых друзей, идем тут, идем там, долг чести есть долг чести. И вот «бугатти» приезжает в Израиль для одной недели, а потом возвращается в музей, и никто не знает, что и почем, и слава Богу, бокер тов, шабат шалом[8]!
У меня аж губы пересохли. Наверно, надо возблагодарить Всевышнего, что дал мне дожить до этого дня. Жаль только, никто из моего класса не увидит, как я еду на «бугатти». Жаль, что весь сегодняшний день меня не сопровождала толпа кинооператоров. Допустим, мне поверят, что я сам управлял локомотивом, гудел в гудок и остановил поезд. Но в то, что специально для меня на корабле привезли королевский автомобиль с открывающимся люком, не поверит даже Миха! Ну и пусть не верят, подумал я со злостью. Почему я все время должен что-то кому-то доказывать? Короли ничего не доказывают! Ты король, и всё тут.
— А как он перепугался, машинист, — нервно хихикнул я. Каждый раз, когда я вспоминал о том, что произошло в поезде, колесо ужаса снова прокатывалось по мне.
Феликс пожал плечами:
— Это есть просто игрушечный пистолет.
Как же мне полегчало!
— Игрушечный? Правда?
Снова пожав плечами, Феликс вытащил из кармана пистолет и протянул мне. Маленький, но довольно тяжелый. Как настоящий. Рукоятка украшена перламутром. Однажды я видел такой, только настоящий, на выставке трофейного оружия. Отец задержался возле него надолго, разглядывал его, трогал, поглаживал, прицеливался, но когда я спросил, что его так заинтересовало, он тут же с пренебрежением вернул пистолет на место: «Женская игрушка».
Рассказывать об этом Феликсу я не стал.
Я начал надуваться от удовольствия, как воздушный шар. Я держал в руках игрушечный пистолетик, поглаживал. Уже второй пистолет за сегодня. Как все-таки однообразна жизнь.
Мы все еще ехали по узкой дороге. Я приподнялся и высунул голову в люк. Помахал рукой проехавшему навстречу пикапу, водитель пикапа помахал мне в ответ и с уважением посмотрел на нашу длинную черную машину. Для полноты картины мне не хватало только ковбойской шляпы. Я сказал про шляпу Феликсу, и он снова откинул голову, и захохотал, и подмигнул мне. На дикого зверя он похож, на барса. Хоть и старый и возле рта морщинки с двух сторон, а все-таки в голубых глазах хищные искры, и я, сам того не замечая, уже копирую его гримасы, его улыбку и эти опасные искорки. Я, наверно, рассказывал про это мое смешное свойство — примерять на себя выражение лица того, с кем говорю, составлять внутренний фоторобот, и по сей день я не знаю, чему приписать это — актерскому таланту или гибкости натуры. Как бы там ни было — Феликс это сразу заметил. Он видел меня насквозь. В одну секунду он понял про меня все, но меня это не волновало. Я видел, что он улыбается про себя, будто ему нравится, что я такой талантливый пародист. Он ведь и сам был чуточку актер — какой спектакль он устроил для машиниста, — и что-то в моем сердце потянулось к нему, проникаясь симпатией: как мы отлично сработались там, в локомотиве, а мы ведь даже не репетировали, я и так понял, чего он ждет от меня. Как у меня задрожала рука, а? Феликс нажал на газ, и «бугатти» понесся вперед, а Феликс подмигнул мне по-свойски, и оба мы почувствовали, что это начало великой дружбы между двумя актерами, двумя путешественниками, которые не знают страха. И тут Феликс взял у меня игрушечный пистолет, и высунул его в люк навстречу небесам, и крикнул: «Айда!», и нажал на курок.
И раздался гром средь ясного неба.
Меня затошнило и затрясло. Из дула пистолета поднимался дымок. Я прилег на шикарное сиденье. Все предвкушение приключений, вся радость новой дружбы уходили из меня, как воздух из проткнутого воздушного шарика.
— Ты же сказал — игрушечный… — беззвучно прошептал я. Продолжая рулить одной рукой, Феликс понюхал дуло пистолета, посмотрел на меня своими младенческими глазами и с улыбкой пожал плечами:
— Подумай только, юный господин Файерберг, — как меня обманывали в магазине игрушек!

ГЛАВА 9
МЫ СКРЫВАЕМСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ

Дым от выстрела поднимался над моей головой и улетал сквозь открытый люк «бугатти» в небеса. Я вдыхал его, горький и едкий.
— Может, все-таки вернемся домой? — прошептал я.
Лицо у Феликса вытянулось.
— Пардон, — проговорил он, — прошу извинения. Я не хотел тебя так испугать, хотел только насмехаться чуть-чуть.
Треугольные брови от растерянности поползли вверх.
— Верно, Феликс уже немножко слишком старый, чтобы насмешить детей, а?
Я не отвечал. Хорошая мы пара: взрослый, который не умеет смешить детей, и ребенок, который не умеет смешить взрослых.
Сквозь сжатые зубы я спросил, есть ли у него дети.
И снова он замешкался, засомневался, словно взвешивал в уме ответ. Как будто в мире нет таких понятий, как правда или факт, как будто для каждого вопроса существует несколько ответов и надо сначала прикинуть, какой из них подойдет именно в этой ситуации этому спрашивающему.
Вот прикинул. Заулыбался знакомой улыбкой.
— Есть одна дочка. Она есть уже большая, могла бы быть тебе в матери.
Из вежливости я промолчал. Никто не мог бы быть моей матерью. Разве что Габи. Может быть.
— Но и когда была маленькая, я тоже мало ее воспитал, — добавил Феликс, — все ее детство потерял, все время не находился. Путешествия, работа. Жаль, а?
Мне не хотелось отвечать. Правду сказать, не очень-то он подходил для воспитания детей. Поразвлекать их час-другой — это да. Наверняка он умел показывать на стене смешные тени, знал пару-тройку несложных фокусов и мог нарассказывать таких историй, что только уши развешивай. Но растить детей, ухаживать за ними, воспитывать их, ссориться с ними, тревожиться, когда они болеют, утешать их, когда им грустно, как утешала меня Габи, — нет.
— Почему так на меня смотришься? — спросил он растерянно и натянуто улыбнулся. Я и вправду не отрывал от него глаз. Пусть почувствует, как я зол. — Я ведь на самом деле люблю детей, — пробормотал он извиняющимся тоном, — все говорят: у Феликса есть удача с детьми! Все дети любят Феликса…
Ну да, а я о чем.
Я из вредности молчал.
(По-моему, человек, который вот так с гордостью заявляет, что любит детей — а таких взрослых полным-полно, — в глубине души считает, что дети — это некая разновидность живых существ и что все дети одинаковые и внутри, и снаружи. И эти любители детей относятся к детям довольно пренебрежительно: вот скажите, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то гордился тем, что любит взрослых? Любители детей считают, что дети все милые и добрые, целыми днями только играют и поют. «Ах, детство, счастливая пора!» — восклицают эти взрослые, и хочется в ответ погладить их по квадратным затылкам и сказать: «Ах, глупость, счастливое свойство!» Дети, остерегайтесь любителей детей!)
— Ну что, — хмыкнул Феликс, — господин Файерберг изволили глотать язык?
Я видел, что смущаю его своим молчанием и этими взглядами, подрываю его уверенность в себе. Время от времени мне казалось, что он читает мои мысли. Ах так? — подумал я. Ну, читай! На мой профессиональный сыщицкий взгляд, ты, господин Феликс, любишь одного только себя, и развлекать умеешь только себя, и заботишься только о своем внутреннем ребенке, вечном ребенке, который никогда не вырастет! Вот ты кто!
Я добился цели. Конечно, это было жестоко, но я ведь мстил ему за выстрел. И должен признаться, что эффектная фраза про внутреннего ребенка была не моя. Это Габи сказала так однажды об одной известной актрисе по имени Лола Чиперола, и фраза эта запала мне в голову. Даже удивительно, как те же слова подошли и Феликсу. Взгляд его дрогнул, щеки залил румянец, он обеими руками взялся за руль и отвернулся к окну.
Несколько минут в машине стояла тишина. Через некоторое время Феликс посмотрел на меня снова, уже совсем другим взглядом. Никакого блеска в нем не было. Что-то произошло между нами, что-то вроде маленькой дуэли, в которой я, уж не знаю почему, победил.
— Юный господин Файерберг — смышленый малый, — проговорил Феликс в тишине, — однако теперь надо еще испытать, насколько господин Файерберг смелый малый, чтобы пуститься в наш путь.
Он так смешно говорил на иврите, с одной стороны, с ошибками, с другой — такими красивыми словами. Машина наша ехала медленно и тихо. Сейчас я должен решить. Если я скажу: «Хватит», он остановится и все закончится. Оборвется в один миг странный сон, красивый, ужасный, запутанный. Сон, который только-только начался, сон-загадка, сон, который мог привести куда угодно. Я закрыл глаза, попытался сосредоточиться, но мысли расползались во все стороны, и только где-то в глубине души плескался холодный безымянный страх, страх того, что может произойти со мной, пока я вместе с этим Феликсом, так что, наверное, и не стоит разбираться в происходящем до конца, ведь разгадка может оказаться куда страшнее загадки…
— Поехали, — выпалил я.
— Очень хорошо.
Феликс с облегчением выпрямился в водительском кресле. И даже больше. Я видел: он рад тому, что я готов продолжать путешествие. Я тоже выпрямился и взглянул ему в глаза. Я гордился собой, хотя и не понимал до конца, что именно вызвало в нас обоих такие перемены.
— Только сначала надо нам с тобой избежать от погони, а?
Это был неожиданный поворот — и в разговоре, и в путешествии. Я ничего не стал спрашивать. Прикусил язык и решил ждать, что будет дальше. Феликс остановил гигантскую машину недалеко от цитрусовой плантации. Мы вышли. Где мы и куда Феликс везет меня, я не знал. Он достал из багажника свой кожаный чемодан. Закрыл дверь машины и зашагал. Я пошел следом за ним в гущу деревьев, сдерживаясь, чтобы не спросить, куда же мы направляемся. Я уже попривык к тому, что в любой момент могут измениться планы, ситуации, будущее…
Мы углублялись в заросли, и мне стало не по себе. Кроме нас, в роще никого не было. Мы пробирались между топких оросительных каналов. Я обернулся, но нашего «бугатти» уже не разглядел. Ни его, ни дороги. Нас окружали только деревья и тишина.
И вдруг в просвете между двумя рядами деревьев я увидел большую лягушку. Зеленый «фольксваген». Вообще-то это был «фольксваген-жук», но очень уж похожий на лягушку. Я ничего не сказал. В который раз я поразился, какую масштабную операцию они спланировали для меня, и в который раз втайне подумал: ну почему нельзя было подарить что-нибудь попроще? Что плохого, например, в футбольном мяче? Все сильней и сильней мне казалось, что меня подхватило потоком и несет, несет… Я шагал рядом с Феликсом. Он шел быстро, но без страха. Торопиться вообще было ниже его достоинства. Он открыл свою дверь, я — свою. Он сел со своей стороны, я со своей. Он завел машину. Я откашлялся. Мы оба молчали, и оба были довольны этим мужским молчанием. «Жук» попрыгал на выбоинах и выбрался на ровную дорогу. Мы пустились в путь.
— Очень важно, что мы начинали наше путешествие на черном «бугатти», — сообщил он. — Такое авто делает что-то особенное, делает стиль, а?
Он произнес «стиль» с таким видом, будто съел что-то лакомое. Я задумался о судьбе шикарного авто. Ради получаса езды он привез его на корабле в Израиль, а потом бросил без всякого сожаления, так же как часы с цепочкой. Даже двери не запер. Он, похоже, миллионер.
— С другой стороны, черный — слишком заметно. А желтые двери — еще больше заметно. Момент один, момент два — и к ней уже приедут полицейские. За этим я и приготовил нам «жука». Таких в Израиле есть много. На него никто не обратится вниманием. Мы можем проезжать хоть прямо через полицию, и полицейские снимут нам шляпы и скажут — добрый день, мерси боку, шабат шалом!
Я хранил суровое профессиональное молчание. Не сразу дошел до меня смысл разговоров о полиции.
— Мы что, скрываемся от кого-то?
— Думаю, от полиции. Вряд ли ей нравилась вся эта история с поездом. — Феликс пожал плечами и трижды причмокнул губами, точно такое поведение полиции его очень огорчало. — Полицейские иногда такие скучные!
Тут он усмехнулся:
— Я не говорю о твоем отце, что ты, нет, ни за что! Господин твой отец по-настоящему чемпион, а они так, простые сыщики. А твой отец есть лучший в мире сыщик.
В этот миг произошло сразу два события:
1) В душе моей забурлили, лопаясь, пузырьки счастья — выходит, не я один считаю отца лучшим в мире сыщиком!
2) Я наконец понял, каков был истинный план отца. Набрался смелости понять.
— И теперь мы вдвоем, — начал я, запинаясь, поскольку сама мысль меня пугала, — теперь мы скрываемся от правосудия?
— О, это очень красиво сказать! Мы скрываемся от правосудия!
Он повторил эти слова несколько раз.
— И что, и завтра тоже? И завтра будем скрываться?
— И позавчера! То есть нет, наоборот — послезавтра! Ты порешишь сам, до когда мы будем скрываться. Ты решаешь — я делаю! Ты сегодня — Аладдин! Я сегодня — джинн для тебя! Йес, сэр!
И отдал честь.
В этот миг управляющий моим внутренним цирком щелкнул кнутом, оркестр взорвался быстрым маршем, и тридцать два акробата, трое глотателей огня, двое фокусников, метатель ножа, клоуны, обезьяны, львы и слоны, и пяток бенгальских тигров дружно вырвались на залитую светом арену и завертелись безостановочной каруселью… Да, вот такой редкий случай, целый цирк бежал, чтобы примкнуть к ребенку, и голос опьяневшего от счастья глашатая разнесся из розовых динамиков: «Дамы и господа, почтеннейшая публика, послушайте!»
Я откинулся на сиденье и закрыл глаза, я ждал, пока в этом буйстве звуков потонет тихий осторожный голос, все пытающийся шепнуть мне слова предупреждения. Я уже не хотел к нему прислушиваться, пусть он оставит меня, хватит все портить! Феликс ехал медленно, напевал что-то себе под нос и прицокивал языком в такт — оркестр из одного музыканта. Я открыл окно, лицо обдало ветром. Это приободрило меня. Я выпрямился. Все. Со мной все в порядке. Все будет хорошо. Все стало вдруг простым и ясным. Наконец-то, после нескольких часов смятения и досады на отца и Габи, я понял смысл и всю дерзость идеи: вот, значит, в чем заключался подарок! А Феликс и есть тот особенный человек, которого отец выбрал для этой миссии. Я снова застонал при мысли о величии отцовской затеи. С виду ни за что не догадаешься, какой он на самом деле, на что способен, если хочет. Да, действительно, часть его профессии состоит в том, чтобы не бросаться в глаза (хотя Габи, конечно, неправа, говоря, будто это проникло ему в душу), — но такой отчаянной смелости не мог в нем предположить даже я. Вот интересно, что Габи сказала по этому поводу. Посмотрим, сможет ли она его теперь бросить.
Я и на Феликса взглянул по-новому. Если отец доверил ему такую деликатную операцию, значит, он и впрямь нечто особенное. Нечто особенное тем временем надело простые солнечные очки, ни в какое сравнение не шедшие с благородным моноклем. Ехал Феликс осторожно, как будто даже прикрыв глаза, но я-то знал, что он не упускает ни одной детали. Все сильней и сильней он напоминал мне отца. Такие разные они были — и все-таки чем-то похожие. Я сглотнул. Пальцы по-прежнему дрожали.
Вдруг это все-таки окажется слишком опасно? Насколько вообще можно нарушать закон?
А если я не оправдаю их надежд?
А если нас схватят?
С каждой минутой я все яснее осознавал масштабы и сумасбродность этой затеи. Что за азартную игру задумал отец! Дать мне насовершать преступлений, вроде того, что мы уже натворили в поезде? Да если кто-нибудь узнает, что там на самом деле произошло, отец вылетит из полиции, а на его место возьмут заместителя, этого отвратительного Этингера, а что за жизнь у него будет без полиции, без розыска? В сердце моем я тут же поклялся не выдавать его даже под пыткой в следственных подвалах.
И все равно я не мог взять в толк. Не осмеливался. Я сделал глубокий вдох. Я готовился задать длинный и обстоятельный вопрос, который прольет свет на все это дело.
— А что мы будем…
Я поперхнулся. Замолчал. От смущения посидел еще несколько секунд молча. Феликс тонко улыбнулся.
Ну же! Давай! Действуй!
— Что мы будем… делать? Вместе?
Этот дрожащий голос принадлежал, как ни странно, мне.
— О господин Файерберг, — взмахнул рукой Феликс, — мы будем делать вещи, каких ты никогда не поделывал в жизни!
— А если нас поймают?
— Не поймают.
Сейчас или никогда.
— Скажи, Феликс, полиция… Она что, никогда тебя не задерживала?
Он даже не перестал мурлыкать себе под нос, будто не услышал. Лишь спустя долгую секунду донесся ответ:
— Один раз. И хватит. Больше не поймают. — И улыбнулся сам себе: — Первый и последний раз.
Но улыбнулся одними только губами, и та жесткость, уже знакомая мне, снова проступила в нем.
— А сколько лет вы знакомы с отцом?
— О! Может, десять лет! Может, больше!
Я посомневался, как сформулировать следующий вопрос:
— И вы познакомились… по работе?
Теперь улыбнулись уже и морщинки вокруг глаз:
— По работе. Господин Файерберг хорошо сказал.
Он прибавил скорости и сосредоточился на езде, принялся насвистывать какой-то незнакомый мотив, похожий на веселый скрипичный проигрыш, время от времени подпевая с удовольствием: «По рабо-о-те!» и сопровождая эти слова быстрым «пам-пам-пам!». Все время он насвистывает или напевает что-то. Наполняет воздух звуками. Наверное, это отличительный признак всех взрослых, которые в детстве были такими, как я.
Несмотря на все сложные и противоречивые чувства, которые вызывал во мне Феликс, было приятно смотреть на его руки — спокойные, с длинными пальцами, настоящие мужские. Вот только кольцо меня чем-то смущало, массивное золотое кольцо на левой руке, это было какое-то баловство, украшательство, к которым я не привык. С камнем, поблескивающим, как пистолетный ствол, черным, как ров под тюремной стеной, таинственным и мрачным.
Я решил смотреть только на правую руку. В ней я черпал уверенность, и симпатию к Феликсу, и готовность ехать дальше. Вот это была правильная рука. Эта рука напоминала мне об отце, о том, что он охраняет меня, хоть и издалека, что он специально, очень тщательно выбирал мне Феликса. Что Феликс — настоящий «тайный» без страха и упрека, вон одна его правая рука чего стоит. И он хоть и преступник, а мне с ним будет хорошо.
— Отец — суперполицейский, правда?
— Сыщик номер один. Нумеро уно! — ни секунды не колебался Феликс.
Жаль, что отец не слышит. В последнее время он и сам перестал верить, что чего-то стоит. Со всеми бывшими друзьями-полицейскими перессорился, никто теперь не хочет с ним работать. Две недели назад про него написали в «Последних известиях»[9], будто он провалил все важные дела, за которые брался в последние годы. Что из-за своей ненависти к преступникам он ведет себя как слон в посудной лавке там, где нужны осторожность и осмотрительность. Феликс, наверное, не читал этой статьи.
— Последнее время у него были сложности, — начал я осторожно.
— Что писали в газетках — это ерунда! Это постное масло! — махнул рукой Феликс. — Они не понимут, что господин твой отец — не просто так сыщик, что это у него в кровях. Он не как другие полицейские, что только кладут себе на голову полицейскую шапку — и все, вся их служба! У сэра твоего отца розыск — это искусство! Он среди розыска — как… как «бугатти» среди машин! — И он поднял палец, чтобы придать своим словам значимости. И мне было абсолютно наплевать, что это тот самый палец, с кольцом.
— А вот в одной газете, — продолжил я, смущаясь, — даже написали, что он, чуть только видит преступника, делается как сумасшедший и из-за этого портит всю операцию.
— Сами они сумасошедшие! — вскипел Феликс. — Я тоже читал эти глупости! Они что, думают, половить преступников — это детские игрушки?
— И его уже давно не повышали в звании, — пожаловался я с забившимся сердцем — нельзя об этом рассказывать посторонним, у нас в полиции не принято выносить сор из избы. Но горечь за отца переполняла меня, к тому же Феликс ведь на нашей стороне.
— Свининство! — Феликс стукнул кулаком по рулю. — Да они его просто боятся! — И надул губы чуть не до носа, и недовольно буркнул что-то.
Не забыть бы завтра рассказать об этом отцу. Вот жаль, что Габи не слышит. Я вообще не понимаю, как он может слушать все эти ее обидные слова и молчать. Габи считает, что отец должен немедленно уволиться из полиции и найти другую работу. Вот прямо так и сказала. Простая, как танк.
— Другую работу? — У отца даже рот приоткрылся. — Ты сказала, другую работу?
Мы тогда были на кухне, все трое, готовили ужин. Я так и застыл со сковородкой в руках. Отец начал раздуваться над кастрюлей с макаронами. Габи явно ждала, что вот сейчас он взорвется, и осмелела оттого, что этого не произошло:
— Хватит с тебя!
Молчание. Отец — молчит! Габи продолжает дрожащими руками нарезать овощи.
— Почти двадцать лет жизни ты отдал этой профессии. Много чем пожертвовал ради нее. Пришло время заняться чем-то другим, заняться нормальным делом — с оговоренным графиком работы, без пистолетов, без стрельбы, без ежедневной угрозы жизни!
Габи бросила испуганный взгляд на отца. Он по-прежнему молчал. Она набрала воздуха и выпалила:
— Если ты уволишься, я уволюсь тоже, получим компенсации и откроем на эти деньги ресторан! Да, ресторан, почему бы и нет?
Это было что-то новенькое. Из полиции в повара? Отец квакнул, как лягушка, нырнувшая в туннель в Англии и вдруг вынырнувшая из него на французской кухне:
— Ресторан? Ты сказала — ресторан?
— Да, да, ресторан! С домашней кухней. Я буду готовить, а ты…
— Может, еще наденешь на меня розовый передник и поставишь к плите? А? По-твоему, я слишком стар для полиции?
Я понял, что добром это не кончится. Начал искать тему, чтобы поскорей перевести разговор в другое русло, и никак не мог найти. Сейчас они поссорятся, и Габи уйдет. А все эти временные уходы приближают уход окончательный. А я не могу вечно жить под дамокловым мечом.
— Когда-то ты был хорошим полицейским, это все знают. — Габи говорила спокойно и дружелюбно. — Очень хорошим. Но после всего, что произошло потом, ты потерял чувство меры. Ты считаешь, что работа — это твой личный бой против всего преступного мира. С таким настроем невозможно быть профессионалом.
И тишина. Нельзя безнаказанно говорить отцу такие вещи!
А он молчит. Молчит!
— Ты так стремишься отомстить им всем, каждой мелкой сошке, что сам себя выдаешь.
Тишина.
Отец медленно помешивал в кастрюле макароны. Габи так нервничала, что продолжала резать один и тот же несчастный помидор. Она чувствовала, что на этот раз — для разнообразия — отец прислушивается к ней с интересом. Надо срочно встрять и сказать что-то, чтобы она замолчала. Что она вообще понимает в розыске? Что она знает о вечной битве между преступниками и полицейскими, о нашем мрачном и жестоком мире?
Но в этот момент мне вспомнилась одна недавняя история, как мы с отцом вместе были на задержании, и отец вел себя именно так, как говорила Габи, и все испортил, и хорошо еще, что я оказался поблизости.
Я замолчал и стал перемешивать яйца на сковородке. Кажется, дело принимало новый оборот.
Отец произнес в тишине:
— Когда в газетах пишут, что ты ведешь себя как слон в посудной лавке, — это горько. Представь, каково бы тебе было, если бы кто-то сказал, что ты — как… как…
Габи героически проигнорировала замечание:
— Яду там, конечно, было предостаточно, но было и здравое зерно, и если ты хочешь, чтобы что-то в твоей жизни изменилось, к ним стоит прислушаться!
Она наконец оставила в покое помидор, посмотрела испуганно на красноватую жижу, растекшуюся по разделочной доске