

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Топ:
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Среди ярких перформативных символов воображаемого Запада в 1960–1970-х годах были понятия, которые на молодежном сленге назывались «лейбл», «фирма» и «фирменная вещь». В 1985 году «Литературная газета», описывая диспут в одной из советских школ на тему молодежной моды, дала иронично-критическую иллюстрацию этих жаргонных понятий. В процессе диспута одна школьница по имени Сонька спросила по поводу какой-то модной вещи:
А где «лейбл»? Как на Соньку все набросились: «Как ты выражаешься, мы тебя не этому учили, что это еще за “лейбл”?» Сонька чуть не плачет и объясняет, что «лейбл» — это такая маленькая этикетка, которая есть на каждой фирменной вещи, и что в этом году ей подарили привозной батник и там «лейбл» был387.
В объяснении школьницы был удивительно точно схвачен особый советский смысл этих понятий. Хотя советский термин лейбл, как и английский label, от которого он произошел, означал фирменную марку, ярлык, этикетку на каком-то продукте, то есть служил маркером его аутентичности, то, каким образом аутентичность понималась в советском контексте, отличалось от западного. Главной задачей лейбла в советском контексте было маркировать предмет не как продукт определенной фирмы (эта роль была тоже важна, но далеко не всегда), а как западный продукт в принципе (точнее, как часть воображаемого Запада). Любой предмет, маркированный таким образом, становился «фирменным». Магнитофон известной японской фирмы Sony был однозначно «фирменным», но и магнитофон или шариковая ручка никому не известных фирм, но явно западного (или японского) производства тоже были «фирменными».
Эта особенность советских понятий лейбл и фирменная вещь хорошо прослеживается в сравнении цен на различные виды одежды в 1970-х годах. Хотя вещь, произведенная известной западной фирмой, была особенно в цене, неизвестная «западная» фирма ценилась не намного меньше, а иногда так же высоко. Разница в цене между известными в Советском Союзе марками американских джинсов (Lee, Super Rifle, Wrangler), купленных на черном рынке, и незападными джинсами (польскими «Одра», индийскими «Милтонс», болгарскими «Рила»), купленными в советском магазине, была колоссальной — первые стоили от 150 до 300 рублей, а вторые — 15–30 рублей[207]. Но разница в цене между известными американскими марками и неизвестными западными марками джинсов была незначительной. На черном рынке неизвестных, но западных марок джинсов (всевозможных финских, итальянских, немецких) было не меньше, чем известных. Можно привести другой пример: женские кожаные сапоги обычно характеризовались не как сапоги известной или неизвестной марки обуви, а как «итальянские», «французские», «шведские» и так далее. Высокая цена платилась в первую очередь не за конкретный «бренд» (хотя известная марка часто была несколько дороже неизвестной), а за фирменность, то есть «западную» материальность продукта как такового.
Более того, поскольку важна была связь вещи не столько с реальным, сколько с воображаемым Западом, вещь могла восприниматься как относительно фирменная, даже если она была местного происхождения. К таким вещам относились подделки под реальные западные фирмы и просто вещи, выполненные «под Запад». Все же, как только выяснялось, что это была подделка, ее прямой контакт с воображаемым Западом, а значит и ее фирменность, уменьшался. Поэтому местная подделка под джинсы известной западной фирмы была хуже, чем джинсы неизвестной, но все же настоящей западной фирмы. За хорошую подделку, произведенную у нас, так много как за реально фирменную вещь, не заплатили бы.
Люба, 1958 года рождения (которую мы встречали в роли комсорга в главе 3), как-то столкнулась с тем, что хорошие местные подделки западных джинсов были практически неотличимы от настоящих. Люба знала одного ленинградского портного, шившего поддельные западные джинсы. Шили их из «фирменной» (итальянской) джинсовой ткани, рассказывает Люба, «по фирменным лекалам, со швами оверлок, со всеми деталями», нашивая на них настоящие (или поддельные) пуговицы, молнии и лейблы западных фирм. Люба интересовалась западной одеждой и не раз с подругами рассматривала западные джинсы во всех деталях. Она неплохо разбиралась в джинсах, но многие подделки делались так хорошо, что однажды даже она ошиблась. Люба рассказывает:
…мы с мужем купили мне с рук джинсовое платье, полностью уверенные в том, что оно было настоящим. Оно было прекрасно пошито и отлично смотрелось на мне. И на нем был настоящий лейбл. Мы ужасно расстроились, когда вдруг выяснилось, что это была хорошая подделка388.
Западная фирма, лейбл которой был нашит на платье, была Любе незнакома — «это было что-то вроде Blue jeans или Black flag». Но не это было важно. Подделкой в данном случае оказалось не авторство конкретной фирмы, а западное происхождение купленной вещи вообще, а значит, уровень ее «фирменности» резко упал. Люди применяли изощренные способы проверки, чтобы удостовериться, что вещь была действительно западного происхождения. Люба рассказывает:
…мы внимательно осматривали каждый шов, выворачивали брюки наизнанку, терли ткань мокрой спичкой, чтобы проверить, настоящий ли на ней краситель, в деталях проверяли каждую пуговицу, заклепку, молнию и лейбл. Если бы оказалось, что это не фирменные джинсы, никто бы не дал за них 180 рублей. Даже если они были отлично сшиты и их было не отличить от настоящих389.
Когда молодые люди из советской провинции просили своих друзей из больших городов прислать им «фирменные джинсы» (которые, подобно магнитофонным записям, распространялись по всей стране, хотя и в меньших количествах), они обычно не указывали конкретную марку джинсов. Важнее было, чтобы они были очевидно западного происхождения, то есть фирменными. Весной 1975 года Алексей, шестнадцатилетний юноша из Якутска, в письме своему школьному другу Николаю, недавно переехавшему с родителями в Ленинград, просил того прислать ему просто «джинсы», имея в виду фирменные джинсы, не уточняя, какая именно фирма имеется в виду. Достать фирменную одежду в Ленинграде было гораздо проще, чем в Якутске. 21 апреля 1975 года Алексей завершил свое письмо Николаю так:
Да, насчет джине. К маю ты все равно, наверно, не успеешь мне купить, ну тогда постарайся, Колька, хотя бы в мае. Очень тебя прошу, ведь джинсы незаменимая вещь летом390.
В следующем письме от 14 мая 1975 года Алексей с нетерпением напоминал Николаю:
Коль, извини за назойливость, но я еще раз хочу спросить насчет джине. Как там, можно [или] нет [их] купить? Ты, Колька, сам понимаешь, лето на носу, а джинсы летом незаменимая штука. Если есть, то купи пожалуйста и вышли, деньги я тебе сразу переведу. Еще раз напомню тебе о размере. Размер — 48, рост — 4 или 5.391
Другой друг Николая, Александр, студент Новосибирского университета, двумя годами позже, 10 июля 1977 года, послал ему из Новосибирска в Ленинград письмо с аналогичной просьбой достать джинсы (которые в письме называются популярным в те годы жаргонным словом штаны). То, что речь шла именно о каких-нибудь фирменных джинсах (а не джинсах советского, польского или индийского производства), очевидно из цены, о которой пишет Александр:
Николай, в прошлом письме ты написал, что штаны мне обойдутся в 18.0. А я не понял. Если в 18 рублей, то это очень дешево, а если в восемнадцать червонцев, то это слишком дорого, и я сам за столько смогу купить это здесь, да к тому же мы с тобой, помню, договаривались, и ты обещал мне достать подешевле. Ну, в общем, напиши мне подробнее. Я буду ждать392.
Все эти лейблы, фирменные стили одежды и визуальные образы, так же как и западные имена, музыкальные записи и языковые выражения из вышеперечисленных примеров, были не просто популярными знаками молодежной культуры, а знаками особого вида — индексами, связывающими советское пространство и советскую субъектность с иным измерением воображаемого Запада. Большая привлекательность этих знаков и артефактов для советской молодежи заключалась в том, что они давали возможность каждому участвовать в творческом производстве вполне реального и единого для всех мира, который не был ни советским, ни реально западным, который был вплетен в советскую действительность, постоянно наделяя ее новыми смыслами.
Принципиальный отрыв этих индексов воображаемого Запада от репрезентации того буквального смысла, которым аналогичные знаки были нагружены в западном контексте, позволял им сосуществовать в одном пространстве с самыми разными культурными знаками — от книг классической русской культуры до символов советской идеологии. В комнате одного студента в общежитии Ленинградского университета в начале 1980-х годов, вспоминает Дмитрий (см. выше), рядом с фотографиями английских рок-групп Police и Madness висел портрет Феликса Дзержинского. Этот парень был на несколько лет старше Дмитрия и до университета успел отслужить в частях Советской армии, воевавших в Афганистане, чем он и объяснял свое уважение к Дзержинскому. Хотя подобное смешение символов было, безусловно, редкостью, сам факт того, что оно было возможно, в принципе говорит о многом. У самого Дмитрия фотографии английских рок-групп соседствовали с бюстом Чехова и портретом Чайковского393. У Николая, студента ленинградского технического вуза, приехавшего из Якутска (которому посылали письма его друзья из Якутска и Новосибирска — см. выше и главу 6), вся комната была увешана фотографиями «Битлз», а на полке стояло полное собрание сочинений Ленина, которое Николай терпеливо собирал по частям в течение нескольких лет. А на рис. 25 мы видели портрет Брежнева по соседству с портретом Леннона[208].
Особенности советских понятий «лейбл» и «фирменная вещь» становятся видны еще лучше, если их сравнить с понятием «бренда» (brand), распространенным в западном контексте и широко распространившимся в России постсоветского периода. Бренд — это тоже торговая марка, нанесенная на продукт потребления. Роль бренда заключается в том, чтобы гарантировать подлинность продукта. Однако как именно он выполняет эту функцию — не всегда очевидно. Как показала Роузмэри Кумб (Rosemary Coombe), в западном контексте бренд делает это двумя различными способами. Во-первых, бренд дает обещание потребителю, что конкретный экземпляр продукта является реальной копией оригинала (разработанного фирмой дизайна продукта, студийной записи музыкального альбома и так далее). Во-вторых, бренд функционирует как своего рода след или отпечаток пальца, оставленный на продукте теми, кто его изготовил, — то есть является свидетельством физического контакта между данным экземпляром продукта и его автором394. Очевидно, что эти две функции бренда не одинаковы — например, отлично выполненная подделка известного бренда выполняет первую функцию (является верной копией оригинального дизайна), но не выполняет вторую функцию (не имеет реального свидетельства контакта с автором). Отличие этих двух функций бренда можно также проиллюстрировать, сравнив два одинаковых экземпляра одной и той же книги, которые отличаются лишь тем, что первый экземпляр имеет на первой странице автограф автора, а второй — нет. Обе книги являются верными и абсолютно идентичными копиями оригинала (первая функция бренда), но имеют разные свидетельства живого контакта с автором (вторая функция). Это отличие может быть отражено, к примеру, в разных ценах на эти два экземпляра — издание с автографом автора может цениться намного выше[209].
В советском контексте культурные формы, символы, продукты или языковые выражения воображаемого Запада отличались одной общей особенностью — независимо от того, насколько подлинными, поддельными или просто выдуманными «западными» символами они являлись, самой главной для них была вторая функция бренда. Они функционировали как свидетели физического контакта с воображаемым Западом. Даже настоящие лейблы известных западных фирм на джинсах или пластинках являлись в первую очередь не столько гарантией их качества, сколько свидетелями контакта — своего рода отпечатками пальцев, которые воображаемый мир оставил на поверхности советской жизни. Именно в этом заключалась их основная «фирменность» и ценность. Именно поэтому дружескую кличку Боб, джинсы «Супер Райфл» и магнитофонную запись рок-н-ролла можно рассматривать как похожие по функции символы.
Из всего сказанного становится очевидно, что символы воображаемого Запада, которые в тот период циркулировали в Советском Союзе в огромных количествах, нельзя интерпретировать лишь как свидетельства потребительского отношения к жизни или преклонения советской молодежи перед буржуазной культурой. Напротив, особый способ использования этих символов в советском контексте можно сравнить с некоторыми «антипотребительскими» практиками на Западе. В 1980-х годах среди американских студентов было модно отрезать фирменные ярлыки и лейблы с джинсов, курток и другой одежды или носить свитера, на которых было нанесено название фирмы, наизнанку, так чтобы название не читалось. Все это как бы лишало одежду принадлежности к бренду. Подобная реинтерпретация продуктов потребления в контексте капитализма, как считает Пол Виллис, была видом протеста молодежи против повсеместной гегемонии брендов и «усреднения» субъектов посредством неизбежного потребления этих брендов395.
Однако не стоит рассматривать подобные действия лишь с позиции сопротивления капиталистической системе ценностей. То, что бренд становился невидимым, не подрывало его роли в формировании вкуса молодых людей на Западе — они продолжали носить фирменные джинсы с оторванными этикетками, вместо того чтобы не носить таких джинсов вовсе.
Советскую практику изобретения своих собственных «западных» лейблов, символов и названий, а также практику цитирования западных символов, лейблов или языковых выражений следует интерпретировать аналогичным образом. В советском контексте было важно, чтобы лейблы были хорошо видны. Поэтому кто-то занимался тем, что перешивал иностранные этикетки с внутренней стороны брюк и курток на внешнюю; кто-то вязал себе свитера и спортивные лыжные шапки с английскими словами Ski, Love и другими, кто-то устраивал инсталляции из пустых пивных банок и сигаретных пачек. Эти действия производились не в условиях гегемонии брендов, как при капитализме, а в условиях господства советского авторитетного дискурса, застывшие формы и ритуалы которого наполняли советскую жизнь. Используя символы, лейблы, предметы и языковые выражения воображаемого Запада, советская молодежь реинтерпретировала контекст своей жизни, в котором доминировал авторитетный дискурс, меняя его дословный смысл, но не игнорируя общий культурный контекст социализма, его возможности, принципы и ценности. Американская молодежь совершала аналогичную процедуру, но в контексте, где доминировал дискурс брендов и рынка. Она делала свои лейблы «невидимыми», а советская молодежь, напротив, делала свои — «видимыми». Такими процедурами и те и другие изменяли смысл окружающей реальности, при этом не участвуя в прямом сопротивлении доминирующему политическому «режиму». В обоих случаях эти действия способствовали частичному воспроизводству политического режима — гегемонии капиталистических брэндов или гегемонии авторитетного дискурса партии. Однако в советском контексте смещение смыслов реальности, в том числе посредством ввода в нее воображаемого Запада, постепенно и невидимо готовило почву для будущего неожиданного обвала советской системы.
Моральные дилеммы
Как и в предыдущих примерах из области музыки и моды, объектом критики в советской прессе 1970–1980-х годов был не столько интерес советской молодежи к западным символам, продуктам кал лейблам, сколько крайние проявления этого интереса, которые интерпретировались как проявление моральной незрелости, эгоизма или интеллектуальной лени. Как и прежде, результаты этой критики были неоднозначны. На карикатуре 1974 года в журнале «Крокодил» изображены два длинноволосых подростка в расклешенных штанах. Один из них курит сигарету, держит в руках гитару, а на его расклешенных брюках видна заплатка с английским словом Cowboy. Очевидно, парень пришил заплатку сам, чтобы добавить «фирменности» своей одежде. Второй подросток спрашивает с восхищением: «И где ты такую заплатку оторвал?!» На другой карикатуре «Крокодила», 1978 года, изображен жеманный юноша, с капризной слезливостью заявляющий своей пожилой матери: «Или джинсы “Супер-Райфл”, или объявляю голодовку…» На третьей карикатуре, 1981 года, взрослый сын беспардонно обращается к матери: «И зачем ты меня, мать, на свет родила, если на жизнь денег не даешь?» Одежда, в которую он одет, и символы, окружающие его, — явно несоветского происхождения. На джинсах — лейбл Lee, на бутылках — этикетки Martini и Whisky, на стене висит рекламный символ «Пепси-Колы» и фривольный иностранный плакат с женщиной в бикини и английским словом «drink». А рядом с кроватью стоит коротковолновый приемник ВЭФ (на то, что парень слушает коротковолновые — то есть иностранные — передачи, указывает выдвинутая телескопическая антена).
Согласно этим карикатурам, «западной» одеждой, музыкой и образами интересовались аморальные, бессовестные, необразованные переростки, которые вместо того, чтобы работать, увлекались «западной культурой» и жили на иждивении стариков-родителей. Как и раньше, подобная критика способствовала лишь нормализации интереса к воображаемому Западу среди большинства нормальной советской молодежи, которая не ассоциировала себя с ленивыми и аморальными подростками, поскольку интерес к зарубежной музыке, моде и языкам совмещался у нее с интересом к учебе, работе и «высокой культуре». С этой точки зрения интересно сравнить рис. 26 и 30. Одежда и прическа героя и множество деталей обстановки, изображенные на карикатуре «Крокодила» на рис. 30, удивительно напоминают вышеприведенный фотографический автопортрет молодого человека из Владимира на рис. 26 (за исключением портрета Брежнева в комнате последнего). Причем и карикатура и автопортрет относятся к 1981 году. Но не похоже, чтобы молодой человек на фотографии ассоциировал себя с бесстыжим бездельником, изображенным на карикатуре (аморальность которого подчеркивается присутствием на карикатуре его пожилой матери).

Рис. 28. «И где ты такую заплатку оторвал?!» Художник Б. Старчиков (Крокодил. 1974. №28)
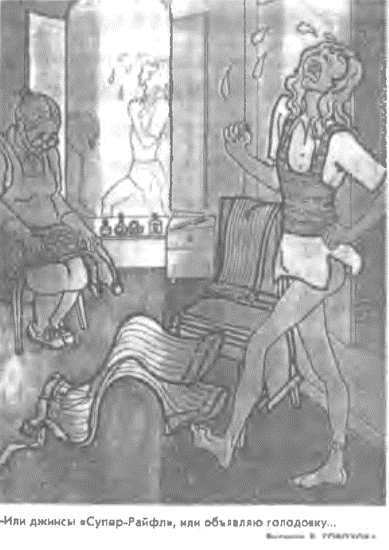
Рис. 29. «Или джинсы “Супер-Райфл”, или объявляю голодовку…» (Крокодил. 1978. № 23)
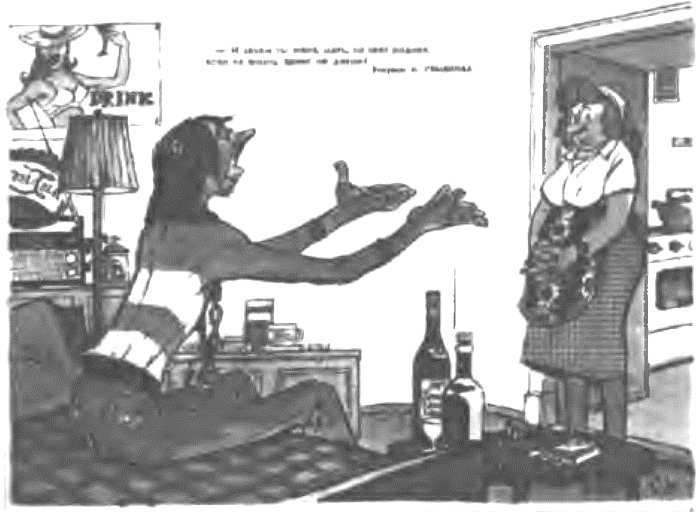
Рис. 30. «И зачем ты меня, мать, на свет родила, если на жизнь денег не даешь?» Художник И. Семенов (Крокодил. 1981. № 13)
Однако это смешение ценностных категорий не всегда проходило незаметно и временами ставило людей перед необычным этическим выбором. Например, хотя интерес к западным джинсам, сапогам, косметике или пластинкам не воспринимался как что-то ненормальное, отношение к тем, кто занимался их перепродажей — фарцовщикам и дельцам черного рынка, — у многих было достаточно негативным и подозрительным. Нередко, покупая западные вещи, человек испытывал смущение или стыд не из-за своих интересов, а из-за того, что ему приходится иметь дело с подобными людьми. Дмитрий, студент Ленинградского университета, родом из Запорожья (см. выше), так описывает эту дилемму, с которой ему приходилось сталкиваться в общежитии университета в начале 1980-х:
Существовали разные каналы, по которым можно было достать западные вещи. Но для таких, как я, они были практически недоступны. Надо было не просто иметь деньги, но быть ловким и пронырливым. Человек [фарцовщик], который продавал джинсы [в общежитии университета], был мне неинтересен и неприятен. Честно говоря, мне не хотелось иметь ничего общего с такими типами. Конечно, у меня был определенный вкус в одежде, и я хотел иметь определенные вещи, которые было трудно достать. Например, джинсы. Но мне было неприятно как-то особо напрягаться ради удовлетворения этого желания. У большинства студентов вокруг меня было такое же отношение. Очень мало кто знал фарцовщиков лично или тем более дружил с ними396.
Фарцовщики представляли собой немногочисленную группу, отличающуюся от большинства людей не только «пронырливостью», но и ярко выраженным интересом к купле-продаже и получению прибыли, а также готовностью притворяться, а порой и унижаться при общении с иностранцами. По крайней мере, так фарцовщиков воспринимало большинство. Этот образ фарцовщика, в отличие от «нормальной» молодежи, вполне укладывался в сатирическое изображение на карикатурах «Крокодила». Американская студентка Андреа Ли, проведшая год в Московском университете в 1978–1979 годах, в своей книге пишет о фарцовщице по имени Ольга, которая обменивала у иностранцев русские иконы и шкатулки на американскую одежду. Вспоминая первую встречу с Ольгой, когда та появилась во флигеле общежития МГУ, где проживали иностранные студенты, Андреа Ли пишет:
Уже через пару минут Ольга ощупывала своими белыми руками с накрашенными розовыми ногтями мои джинсы и платья, проверяя швы и качество материала и по ходу делая замечания, из которых я узнала гораздо больше, чем хотела, о черном рынке… «Очень красиво…» — говорит она, осматривая джинсовую куртку. «За это вам бы дали рублей двести, может даже двести пятьдесят…» «А это что — трусики? Дорогая моя, за каждые можно получить по двадцать, а то и тридцать рублей. Русские девчонки страдают без красивого белья. Кстати, не хотите ли продать вашу оправу для очков или этот милый зонтик»… Мы просмотрели вещи Тома [мужа Андреа, тоже студента из США], мою косметику, наши книжки и музыкальные пластинки. У каждой вещи была своя завышенная цена. Пластинки стоили от пятидесяти до семидесяти пяти рублей за штуку. И все это возбуждало в Ольге страсть, которая явно выходила далеко за рамки обычного делового интереса. Стоя рядом с ней, вдыхая тонкий аромат ее духов и наблюдая за ее суетливыми ручками и сверкающими глазками, я испытала смешанные чувства — раздражение от того, что позволила себе оказаться в роли жертвы, виноватую гордость от обладания такими богатствами и отвращение к патологической меркантильности Ольги397.
Именно такое восприятие фарцовщиков — как людей беспардонных, меркантильных, с горящими от жадности глазами — побуждало многих сверстников Дмитрия избегать контактов с ними или сводить такие контакты к минимуму, хотя многие из них и хотели иметь джинсы или другие фирменные вещи. В конце концов Дмитрий все же приобрел американские джинсы, но у своего близкого друга, что позволило ему избежать прямого общения с фарцовщиком и риска самому показаться в чужих глазах расчетливым дельцом. Характерной чертой последнего советского поколения было желание приобретать вещи, доступные на черном рынке, и одновременно избегать ассоциаций с аморальным образом дельца. Только поняв это двоякое отношение, можно разобраться в парадоксальных ценностях, из которых формировалось неутолимое советское стремление к воображаемому Западу[210].
Таким образом становится понятно, почему для большей части советской молодежи не было ничего странного в том, что секретарь комитета комсомола, который выступал с коммунистическими речами и организовывал комсомольскую работу, мог носить иностранные джинсы, увлекаться западной музыкой и иметь английскую кличку среди друзей. Авторитетный дискурс советской системы и дискурс воображаемого Запада не просто не были взаимоисключающими символическими системами, а, напротив, во многом зависели друг от друга, являясь взаимообразующими системами, находящимися в необычном симбиозе. Без доминирования авторитетной риторики в советской повседневности дискурс воображаемого Запада не смог бы существовать. И наоборот, без существования разных несоветских миров внутри советской системы (одним из которых был воображаемый Запад) воспроизводство гипернормализованного[211]авторитетного дискурса было бы невозможно. Однако, несмотря на то что эти две символические системы существовали в симбиозе, этот симбиоз не был для советской системы безобиден. Напротив, появление и распространение воображаемых миров внутри социалистического общества постепенно и незаметно меняло всю культурную логику этой системы, детерриториализуя ее изнутри и делая ее все менее соответствующей тому, как она сама себя описывала.
Реальный Запад
Когда в конце 1980-х годов, в результате перестройки, священная советская граница начала открываться, стало вдруг очевидно, что воображаемый Запад значительно отличается от Запада реального. С этим открытием все изменилось, и символическое пространство воображаемого Запада в конце концов постигла та же участь, что и всю советскую систему, внутри которой это пространство возникло, — оно исчезло, быстро и бесследно. Для последнего советского поколения осознание того, что их воображаемый мир и советская система всегда были неразрывно связаны друг с другом стало откровением. Когда многие из них впервые съездили на Запад в конце 1980-х годов[212], самым неожиданным открытием для них стали не проявления высокого уровня жизни (то, как выглядят западные люди, машины или магазины, они все же отчасти представляли), а внезапное осознание того, что реальный Запад является чем-то обычным, даже прозаичным. Один представитель этого поколения из Ленинграда, музыкант Марат (1956 года рождения), после первого посещения Лондона в 1989 году вспоминал, как его поразила пыль, лежавшая на лондонских улицах, белье, сушившееся на балконах, кошки, дремавшие в окнах, — все то, что является знаками монотонной, скучной обыденности, а потому ассоциировалось для него с советской реальностью. Когда искусствовед Екатерина Деготь (1958 года рождения) впервые посетила Западную Германию в конце 1980-х, ее поразило, как часто в немецких лесах и парках встречается береза — дерево, которое в советском контексте воспринималось как символ русскости и даже советскости и которое трудно было представить в контексте воображаемого Запада[213].
То, что воображаемый Запад был неотъемлемой частью советского контекста, проявилось не только в некотором разочаровании советских людей, впервые оказавшихся в западных странах и столкнувшихся там с бытовой прозой западной жизни, но и в том особом внимании, с которым они старались отыскать все больше примеров этой прозаичности, одновременно поражаясь ей. Василий Аксенов писал о похожих открытиях и разочарованиях среди советских эмигрантов своего поколения, столкнувшихся с Америкой десятилетием ранее. Когда-то, в Советском Союзе 1950–1960-х годов, воображаемая Америка была частью жизни его круга. Она была веселым, беспечным миром, наполненным причудливыми именами, звуками и образами. Им казалось, писал Аксенов, что Америка — это
…самый что ни на есть перекресток универсального космополитизма, [где] сводка погоды на ТВ непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля, о придворных интригах при ЦК компартии Китая, о продвижении марксизма в глубь Новой Гвинеи и т.д.
Понятие скуки не имело к этому образу никакого отношения в принципе:
Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота? И далее — полыхающие в ночи рекламами острова сервиса: PIZZA HUT, BURGER KING, EXXON, K-MART, GRAND UNION, огромные паркинги, редкие фигуры, идущие к машинам, движение светящихся фар…
Но столкновение с реальной Америкой разрушило воображаемый мир:
Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки… [когда] вдруг выясняется, что все это — рутина, глухомань, одиночество. Лос-Анджелес, Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар… Воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь Пегас, и вдруг опадает мокрой тряпкой — вымершие после заката улицы, «эффект нейтронной бомбы», уныние, рутина398.
Когда сталкер наконец приводит героев книги Стругацких[214]к заветной комнате в центре Зоны, они, к своему удивлению, не находят там ничего особенного. Однако сталкер требует держать это открытие в тайне, чтобы не дать другим потерять надежду399. Реальный западный мир, с которым столкнулось последнее советское поколение, оказался даже менее похож на советский воображаемый Запад, чем это казалось аксеновским эмигрантам предыдущего десятилетия. Разница была в историческом контексте — в том, каким образом осуществлялась встреча с Западом и прощание с СССР. Эмигранты 1970-х годов уезжали насовсем, сжигая мосты, а в конце 1980-х — начале 1990-х делать это было не обязательно. С другой стороны, для тех, кто уезжал в 1970-х, за границей оставался вполне реальный, мощный Советский Союз, а для тех, кто ездил по заграницам в начале 1990-х, Советского Союза на карте больше не было… Теперь, после распада СССР, воображаемый Запад был утрачен не только для эмигрантов, но для всех бывших советских граждан. И утрачен он был навсегда. Вместе с ним были утрачены и все те среды и публики своих, наполненные альтернативными смыслами, творчеством и дружбой, неотделимые от реального социализма и необходимые для формирования внутри него «нормальной» жизни. Самым ошеломляющим открытием было то, что воображаемый Запад и другие воображаемые миры стали исчезать по тем же причинам, что КПСС и вся советская система. Теперь и на то, и на другое можно было оглянуться с одинаковым изумлением во взгляде. Герой романа Пелевина Generation П, размышляя о советском прошлом с позиции постсоветских 1990-х, жалеет об исчезновении именно этих воображаемых миров, которые он называет «паралелльной вселенной». Он вдруг осознает, что многое из того,
что когда-то [ему] нравилось и трогало его душу, приходило из этой параллельной вселенной, с которой, как все были уверены, ничего никогда не может случиться. А произошло с ней примерно то же самое, что и с советской вечностью, и так же незаметно400.
Глава 6.
РАЗНОЦВЕТНЫЙ КОММУНИЗМ.
King Crimson, Deep Purple, Pink Floyd [215]
Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя «Вавилен», которым Татарского наградил отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин». Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец Татарского, — таким было все советское поколение пятидесятых и шестидесятых, подарившее миру самодеятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником — четыреххвостым сперматозоидом так и не наставшего будущего.
Виктор Пелевин 401
Идеологическое оружие
Западная рок-музыка была не просто популярна среди советской молодежи 1970-х годов — она стала неотъемлемым элементом советской культуры, частью повседневности. Эта музыка была настолько своей для большинства молодых людей и настолько не воспринималась ими как что-то чужеродное и экзотическое (в отличие от джаза в более ранние периоды), что к концу 1970-х годов партийное руководство осознало, что популярность этой музыки простым подражательством Западу со стороны кучки незрелой молодежи уже не объяснишь. Вопросов было множество. Почему советская молодежь слушает эту музыку в таких количествах? Как она ее понимает? Как ее распространение влияет на идеологическое воспитание молодежи? Задается ли молодежь вопросом о моральных ценностях и взглядах западных рок-звезд?
Чтобы ответить на эти вопросы, в начале 1980-х годов под руководством двух известных социологов молодежи, Светланы Иконниковой и Владимира Лисовского, в молодежных аудиториях в разных уголках страны прошли дискуссии о рок-музыке. В ходе этих дискуссий социологи пытались вызвать аудиторию на диспут, делая различные провокационные заявления. Они говорили: в современном мире идеологическая борьба между капитализмом и социализмом достигла апогея, поэтому рок-музыку нельзя рассматривать как чисто культурное явление, не отдавая себе отчет в том, что она является идеологическим орудием мирового капитала. Социологи приводили в пример известных рок-музыкантов, поменявших, по их словам, былые прогрессивные взгляды на реакционные буржуазные убеждения. Например, утверждали социологи, всемирно известные Джоан Баез и Боб Дилан, ранее записывавшие «песни протеста», включая песни против войны во Вьетнаме, к концу 1970-х годов изменили своим политическим взглядам и перешли в лагерь империалистов и приняли участие в антисоветской пропаганде. К досаде социологов, их высказывания, сделанные в жанре авторитетного дискурса, не особенно трогали молодежные аудитории. Вместо дискуссии они натыкались на один и тот же вопрос: «А почему нас должна волновать связь музыки с политикой?»402 Завершив поездку, социологи пришли к пессимистическому выводу: советской молодежи сегодня присуща опасная наивность в политических вопросах и неспособность распознавать прямую связь между буржуазной культурой и политикой антикоммунизма.
Действительно, как мы видели в главах 3 и 4, в этот период любые ассоциации с «политикой» воспринимались большинством советской молодежи как неинтересные, не важные, не имеющие к ее жизни отношения. Но это говорило, конечно, не о «политической наивности» молодых людей, а о том, как в советском контексте было сконструировано понятие политического. Утверждение партийных социологов о том, что необходимо вникать в антисоветскую политическую позицию западных рок-звезд, подразумевало, что высказывания и противников, и сторонников советского авторитетного дискурса следует понимать буквально. Но советская молодежь, как мы знаем, обычно не воспринимала авторитетный дискурс буквально. Именно поэтому в советском контексте больше, чем в любом другом, важна была именно музыка западных рок-групп, а не буквальный смысл их песен, текстов или политических позиций. Музыкальная составляющая рок-музыки, которая меньше, чем языковые высказывания, поддается буквальной интерпретации, могла с большей легкостью восприниматься как часть «глубоких истин», — а буквальный смысл песен, лозунгов и политических высказываний воспринимался как что-то неважное [216]. Отвечая партийным социологам, что их интересует музыка как таковая, а не ее связь с политикой, молодые люди лишь повторяли уже знакомую нам формулу: им казались важнее «глубокие истины», выходящие за рамки конкретной политической системы, а не «ясные истины», являющиеся ее частью. Поэтому отказ советской молодежи обнаруживать связь рок-музыки с политикой был не проявлением политической наивности, а, напротив, выражением конкретной политической позиции. Причем важным элементом этой политической позиции было, как это ни парадоксально, нежелание признавать ее как «политическую» — в том смысле, который вкладывался в понятие политического в советском контексте. В конце главы 4 мы назвали эту необычную политическую позицию политикой вненаходимости. В следующей, главе 7, мы рассмотрим ее подробнее.
Конечно, то, что партийные социологи неверно интерпретировали политическое состояние советской молодежи, особого удивления не в

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!