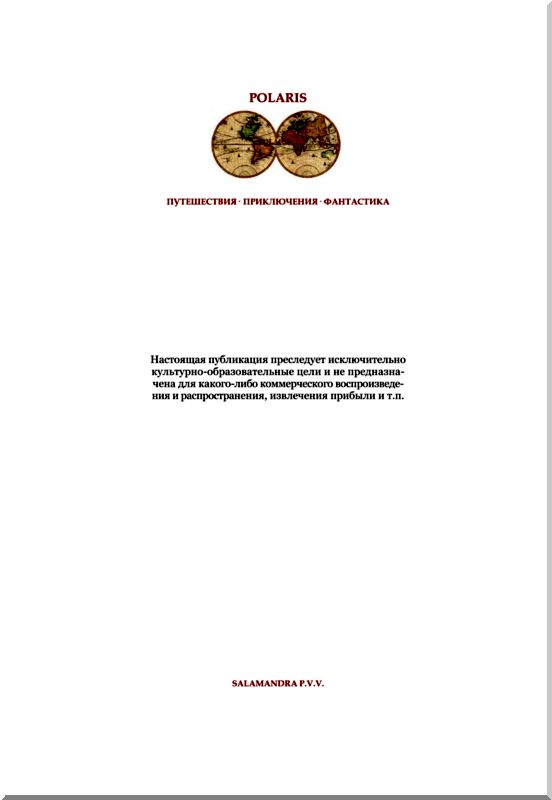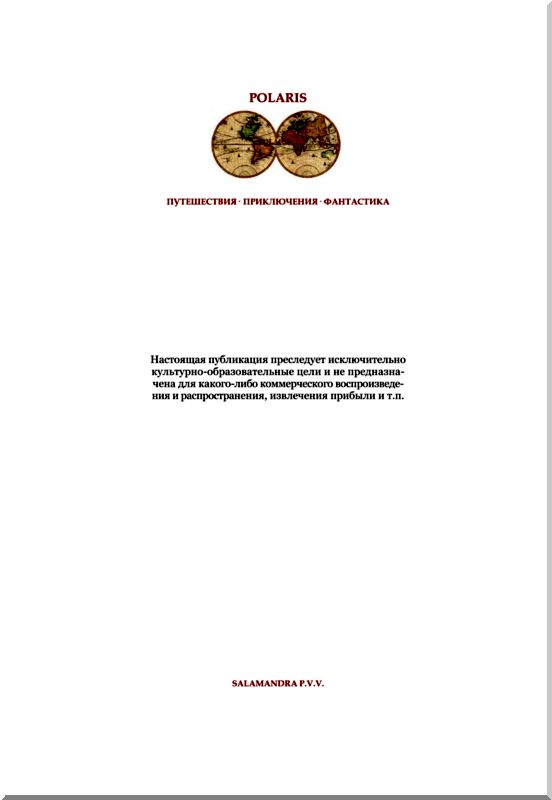Нет ничего бессмысленнее дипломатического корпуса при старинном восточном дворе. Ничего бессмысленнее и экзотичнее.
Азия в этой своей мертвой полосе между Туркестаном и Индией чужда всяких аффектаций. От каспийских солончаков и до Хайберского перевала, за которым начинается таинственная Индия, она покоится от века недвижимая, голубея и блистая рядами нагих хребтов. Их одевает тишина, пространство, излучение времени.
Если что‑нибудь фантастично в этой древней стране, то не она сама, а скорее телеграфные столбы, гигантскими шагами идущие в горы, перемахивающие через ручьи и дикие речки, в клочьях пены похожие на великолепных верблюдов, разгневанных понуканиями погонщика.
Сказочны яркие огни автомобиля, ползущего на железную, ничем не прикрытую гору. Сказочно сердцебиение шестидесятисильного мотора, заглушающего все звуки азиатской ночи. Как во сне, белеют потоки электричества, в которых купаются камни, колючие кусты и обрывы, мимо которых пешком, осторожно ведя лошадь на поводу, шел Александр Великий.
Какая же экзотика в самом Востоке? Здесь умирают просто, и просто закапывают в землю. Ни имени, ни воспоминания. Просто вешают воров и пашут деревянным клыком, который тащит пара замшевых, круторогих, прекрасных быков.

Все это кажется нам чудесным только потому, что где‑то есть гробницы Микель‑Анджело, американские механические плуги, своды законов и стремительный нож гильотины. Но, с точки зрения Солимановых гор, верблюды – наилучший и самый быстрый способ передвижения. Вдоль глянцевитых, мутных и быстрых рек должен расти камыш, чтобы в нем охотиться и спать хищникам. А там, где заросли сожжены кочевниками, на вязкой, пахучей почве зеленеют листья мака, целые поля опиума, и мельница, устроенная в дыре, накрытая камышовой настилкой, шумит мутным ручьем и шелестит первобытным жерновом. Так было и должно быть вовеки.
Там, где Азии касается Россия, даже там, где она в нее проникает насильственно, в общем, не остается заметных следов.
Какой‑нибудь безобразный почтамт среди радостной нищеты бухарских базаров, красноармеец в старой шинели и рваных сапогах на границе между Кушкой и Чильдухтераном, – а все остальное у нас ведь общее. И эта лень, и насекомые, и бедность, и меланхолическое пренебрежение своим временем, своей жизнью.
Есть страны с такой пустынной далью, с таким вымершим небом, где даже как‑то неловко торопиться. Один мост через Оксус, через Аму‑Дарью, грязным, мутным валом валящую через пустыни, как желтая орда, – висит от берега к берегу призраком чуждой культуры. Но, право, этот мост, которому не на что опереться в пустынной топи, кроме своих бетонных быков, так же одинок в Азии, как и в Прикаспийской степи. Он висит над мертвечиной времени и пустого пространства, – сухой, высокомерный, пренебрежительный отщепенец.
Совсем иначе входит Англия в пределы афганской Азии. Где поля нашего Туркестана просто политы кровью безыменных солдат, Великобритания орошает и сушит, устраивает артезианские колодцы, ставит могучие фильтры, так что на пути будущих наступлений, у Хайберского прохода, сейчас даже лошади и верблюды пьют дистиллированную воду, текущую во всех придорожных канавах.
Двойной ряд шоссе соединяет Индию с Афганистаном, которому она, сама раба, должна будет набить колодки и кабальный ошейник. Телеграф и телефон пододвинуты к самой границе, несмотря на почти столетнее сопротивление независимых племен, оберегающих южные, угрожаемые границы эмирата.
Наконец, коммуникационная линия перешагнула и сожженные деревни вазиров, засыпанные аэропланными бомбами в своих только со стороны неба доступных орлиных гнездах, и через условную линию политических границ. Зимний ветер на базарах Кабула поет в тугих проводах индо‑английского кабеля; вожаки караванов доверчиво и небрежно привязывают верблюдов к его предательским, стройным столбам, литым из того же металла, из которого делаются пушки и штыки колониальных армий.
Полуразрушенные загородные дворцы и гаремы прежних эмиров спешно перестраиваются под торговые фактории; английский представитель собирается строить целый квартал, – резиденцию будущего афганского вице‑короля. С ни с чем не сравнимым самообладанием переносят пионеры великой державы оскорбления, ругательства и притеснения со стороны «туземцев», которые на секретных картах генерального штаба уже обведены пунктиром, пришиты к Пешаверской провинции и общему индо‑британскому отечеству и отгорожены от России прохладной нейтральной зоной, проведенной аккуратным циркулем топографа где‑нибудь на полпути между Мазар‑и‑Шерифом и Кабулом, Кандагаром и Гератом.
Джелалабад, сказочный городок на крайнем юге Афганистана, является живым памятником старой, ныне оставленной, политики Великобритании в маленьких восточных деспотиях. Это кусочек средне‑азиатской пустыни, унавоженный, оплодотворенный, благословленный потоком английского золота. Верхушки финиковых пальм, шелестящие металлическими веерами в обетованном небе, розы и левкои в январе, налитые золотом и медом мимозы; белые дворцы, фонтаны и искусственные ручьи, – все пример мирных чудес, которыми наполнится глухой каменистый пустырь, если его воинственный и невежественный народ позволит золотой палочке британского капитала прикоснуться к своим бесконечно унылым пространствам.
Старый эмир Афганистана, Хабибулла‑хан, был куплен англичанами. Они научили его пользоваться богатством, развили вкус к безмерной роскоши. Английские инженеры и техники заменили перекипающему от жира и болезненного разврата шаху услужливых духов «Тысячи и одной ночи». Цивилизация начала свою облагораживающую работу с уборных гарема, оборудования европейской кухни и устройства отличных дорог, по которым автомобиль его величества мог беспрепятственно перекочевывать из одного притона, устроенного его европейскими друзьями, в другой, расположенный где‑нибудь на другом конце пустыни, предоставленной пыльным ветрам и равнодушно влачащимся верблюдам.
Джелалабад, золотой, не знающий ни стужи, ни зноя, погруженный во влажное тепло, болотистый, благоуханный рассадник опиума и роз, останется высшим достижением той политики, которую англичане с таким блеском применяли и продолжают применять в Индии: политики мирного завоевания путем подкупа и развращения маленьких государей и прикармливающейся возле них безработной знати.

Сами сухие, подвижные, высушенные тропическим солнцем, покрытые пылью всех больших дорог мира и насквозь горькие от хины; по воскресеньям набожные, по будням бережливые и воздержанные, как скаредный англиканский молитвенник, британцы поставляют восточным дворам не только порнографические картинки, не только раздирающий внутренности джинджер и виски, более палящее, чем небо и лихорадки Индии, но и модную философию, легкое, играющее в бокалах гедонистическое мировоззрение. Эта новая религия раджей примиряет беззлобное отвращение буддизма к государству и закону с добродушным цинизмом модной оперетки; балет – со священными плясками, угар кутежей – с самозабвением аскетов, приводящим к одному и тому же: к беспамятству, к святому скотству, к умерщвлению плоти. Не все ли равно – путем аскезы или маразма.
И вот на палубах океанских пароходов принцессы Индии, сидя за маленькими столиками и допивая в одиночестве третью бутылку, покачиваются в такт безобразных фокстротов, немного стыдясь своей смуглой кожи, которая никак не хочет терять под пудрой своих янтарных и медных лепестков. Кто‑нибудь из белых, кто‑нибудь из касты господ, пьющих сода‑виски, задрав ноги на голову поверженной Индии, отводит их в каюту, чтобы потом рассказать в клубе, куда не смеет войти ни один туземец, кроме лакея, о том, как индийская королева, Шехеразада, Дамаянти, напившись хуже извозчика, не теряет сознания, но продолжает болтать и смеяться на незнакомом языке, похожем на розовый говор фламинго.
И спаивая, накачивая гноем и грязью старые индусские семьи, облегчая им разрыв с религией и предрассудками, оплачивая из собственного кармана их грехи и садические подвиги, белые отгораживают себя от ими же растленной индийской аристократии стеной невыразимого презрения. Осыпанная золотом и брильянтами, одетая в перья и фантастические придворные мундиры, зараженная всеми скверными болезнями и всеми философскими эпидемиями, какие только Англия успела сфабриковать и доставить в колонию, чуждая народу и противная белым, эта каста, шатаясь, бредет от скандала к скандалу, от мерзости к мерзости, бережно поддерживаемая под руки двумя честными и трезвыми английскими полисменами.

В Афганистане эта политика растления сверху и усмирения снизу сорвалась в самом начале. Хабибулла был свергнут сыном, в белых дворцах Джелалабада население перебило тысячные, во всю стену, зеркала, и Англии, после тяжелой войны, пришлось начинать сначала. На этот раз совсем иными методами и приемами. Теперь посол Великобритании скромно занимает один из дворцов Джелалабада, построенных на деньги его правительства.
Но вернемся к теме.
Как сказано, из всех экзотик Афганистана нет ничего равного европейскому дипломатическому корпусу, самоотверженно разыгрывающему в пустыне комедию международных приличий. Над каждой хибарой, отведенной под иностранное представительство, вздымается непомерной величины национальное знамя. Не просто флаг, – но drapeau, banner, хоругвь, и не просто вздымается, но возносится, воспаряет. Всех пышнее, ленивее и небрежнее полощется по ветру знамя его величества короля ***. Посол, обитающий под сенью его священного древка, соединяет в своем лице свободомыслие человека, поношенного жизнью, но тщательно заглаженного, как безупречные складки его визитных панталон, с осторожной опытностью старого дипломата, состарившегося на самом скользком паркете, и притом в атмосфере монархии, смягченной периодическими парламентскими пассатами и муссонами.
Господин Ноаль, не владея ни единым метром земли за пределами фамильной усыпальницы, тем не менее, является крупным землевладельцем по убеждению и охотником по традиции. Таким образом, старинный герб и лояльность придворного счастливо соединены с насмешливым добродушием, уживчивостью и гибкостью барина, который много должал, платил проценты на проценты и привык с удивительной грацией отражать наглые приставания ростовщика, портного и этуали. Все это способствовало развитию дипломатических способностей, научило Ноаля ценить и уважать деньгу. Он снизошел к крупной буржуазии, заставляя ее платить за свою терпимость, доступность и демократическую снисходительность. Миллионерам, имеющим в своем гербе керосин и ветчину, синьку и автомобильную шину, эта философская широта милее всякого пресмыкательства. С другой стороны, нет ничего удобнее мудрой терпимости в наши тревожные времена. В самом деле, сегодня в правительстве эра просвещенных чиновников, беседующих с просителями о социализме и его достоинствах. Завтра – нечто вроде Муссолини, послезаввтра – кто знает? – запахнет коммунистами или клерикальной реакцией. Надо принять такую позу, такую защитную окраску, чтобы в случае стремительных перемен кабинета не ломать ни линии своего поведения, ни своих личных взглядов, которые Ноаль излагает с небрежной величавостью, заложив друг на друга породистые ступни в белых гамашах и несколько опереточно сдвинув на затылок необычайно безобразный модный цилиндр, широкий и приплюснутый.
Первое и основное правило такой политики, не зависящей ни от каких международных ситуаций, парящей, так сказать, в безвоздушном пространстве, – это жить в мире со всеми, ничего не отвергать, ничему не удивляться. И второе – не выражать своим поведением никакой принципиальной, последовательной точки зрения: ни государственной, ни общеевропейской. Для Ноаля дипломатический корпус – более или менее удачно составленное собрание хорошо воспитанных людей одного круга, заброшенных – увы! – в такую дыру, как Кабул, чтобы повеселиться и поскучать в обществе друг друга. Священная обязанность каждого из послов – честно разгонять сплин своих коллег и вовремя подавать реплики в высокой, тонкой, самоценной дипломатической игре, жесты и па которой установлены еще на Венском конгрессе. Совершенно неважно, разыгрывается ли дипломатический «театр для себя» на Гонолулу или в Афганистане, среди ньям‑ньямов или папуасов.

Международный этикет существует сам по себе, не завися от времени и места. Раз на клочке священной экстерриториальной почвы, – будь то паркет, или глиняный круг, вытоптанный возле костра людоедов, – сошлись два авгура, два знатока пустопорожнего священнодействия, – они тотчас должны вступить друг с другом в официальные сношения: нанести визиты, сделать реверансы, отретироваться, назначить журфикс, забросить визитные карточки, сменить вестон на визитку, визитку на фрак и, поразив воображение туземцев неомраченной белизной бальной рубашки и девственной линией лондонских фалд, – утонуть, наконец, в просторной чистоте фланели, осененной колониальным шлемом. К сожалению, человек не сам себе выбирает родителей, а посол – своих товарищей по дипломатической пьесе. Мир после Версаля полон превратностей, и порядочным людям вдруг приходится сесть за один стол с самыми неожиданными личностями.
Ругали‑ругали большевиков, а сейчас – не угодно ли? – ни одна путная конференция не обходится без участия этих монстров.
Но и тут всеобъемлющая лояльность Ноаля вывела его из стесненного положения. Ведь он пожимает руку не большевику, но полномочному министру, высокой юридической личности, не подлежащей обсуждению. И если, по счастью, носитель славного звания, выскочивший из самого пекла большевизма, не вытирает нос скатертью и не вовсе орангутанг, то Ноаль, предав забвению грешные годы нашей революции, почтит в его лице старые призраки блаженной памяти Сазонова и Гирса, Извольского и Горчакова. Не личность, но правовую идею, призрак законности, дипломатическую династию, не вымирающую quand même. Живучая фикция преемственности просто перескакивает через яму, в которую свалили семейство Романовых. Для нее император никогда не умирает и никогда не перестает быть императором: он абсолютно непрерывен в своей метафизической сущности. И если вместо орла и трехцветного, в небе вдруг полощется красное с СССР, то значит, императорская Россия умерла, не теряя бессмертия, и новая, советская, возникла, не рождаясь. Ведь и со старой законной монархией случались такие странности: признавала же Европа некоих голштинских князьков подлинными потомками заведомо вымершей Романовской династии.
В культурном, юридически гибком сознании европейского дипломата большевики заняли приблизительно то же место, какое в схоластическом мировоззрении его предка, феодала, занимал какой‑нибудь четвероногий остгот, прямо с варварского щита своих орд взлезавший на священный престол Римской империи и короновавшийся в соборе св. Петра венцом кесаря, скрученным из конского недоуздка. Все это, конечно, постольку, поскольку дикие степные всадники Оттона или Теодориха стояли у самых стен Вечного города, и пьяные латники, рыгающие, пахнувшие лошадиным потом под награбленными шелковыми одеждами, не теряли способности владеть мечом, жечь города и склонять пап к ангельскому миролюбию.
Но, конечно, полное политическое признание, которым советское представительство пользуется в Кабуле, отнюдь не основано на гибкости чьего бы то ни было юридического мышления. Просто в Афганистане нельзя подвергнуть русских бойкоту, не оставшись самому в полном уединении. За СССР здесь говорят сила ее пограничных армий, реальность торговых интересов и ненависть всего населения к англичанам.

Даже французский полуофициальный представитель, академик Фурмье, в самый разгар Гаагской конференции вынужден был признать подлинное существование Советской России на пустом месте, обведенном чертой блокады, которое столько лет держится в политической географии третьей республики.
Кстати, несколько слов о профессоре Фурмье, известном ученом, о котором сам Мильеран в официальной речи упомянул, как о «notre illustre». Это сладчайшее и корректнейшее воплощение казенной французской науки. Белоснежные волосы венком вокруг розовой лысины, свежий цвет лица, приветливые голубые глаза, снисходительная улыбка, открывающая безупречной работы вставную челюсть; крепкие скулы и квадратный, беспощадный подбородок человека, всю жизнь перемалывавшего науку и проталкивавшего в культурный пищевод Европы дешовую и питательную патентованную кашицу. Работая правильными спазматическими приемами, пережевывая свои камни, обломки исчезнувших городов и утварь мертвых, он теперь крепко ухватил Афганистан. Его дикие руины, занумерованные и описанные, исчезают в пещере этого всеядного, всеопошляющего научного рта. И по мере того, как идолы Бамиана и таинственные надписи джелалабадских гробниц будут совершать свое органическое движение по толстым и тонким кишкам археологии, по всем слепым отросткам и мертвым петлям этой науки, в Париже, в министерстве наук и великих открытий некий столоначальник, хранитель пыльных папок Александра и Великих Моголов, бережным почерком отметит заслуги академика Фурмье и приснопамятный день, когда обшлаг его черного сюртука украсит орденская лента. Как всякий истый буржуа‑республиканец, Фурмье питает тайную страсть к монархии. Заветное слово «сир», такое короткое и величавое, слетает с его медовых уст с невыразимой нежностью.
Возле какого‑нибудь толстого, безмерно оплывшего, в постоянной пищеварительной истоме мигающего то одним, то другим глазом, сановника профессор порхает, как заботливая няня. Маленькие потирания рук, улыбка, вкрадчиво поблескивающий оскал, наклонение головы, выражают почтительное и ласковое согласие человека науки с доводами здравого смысла, обитающего под толстой, как верблюжье колено, черепной коробкой афганского сердара.
В такие минуты академик Фурмье, подобно нежной и цепкой лиане, обвивает тяжкий каменный столб абсолютной власти.
Зрелище невыразимого пресмыкательства являет на высочайших аудиенциях мадам Фурмье, жена академика. Она – внучка или правнучка одного из тех знаменитых хлеботорговцев, которые в 1789 году сумели нажить и припрятать громадные состояния, несмотря на ропот Сент‑Антуанских предместий и желчные нападки «Друга Народа». Семья мадам Фурмье давно пришла в упадок; современная спекуляция поглотила миллионы, некогда добытые путем простодушного, натурального хищничества. Но сама праправнучка знаменитого пекаря сохранила сахарную белизну французской булки, эту сочную, теплую мякоть, в которой навеки увязла вставная челюсть маститого археолога. Она белокура, как румяный крендель, обмазанный сверху пером, обмокнутым в желток; над маленькими светлыми глазками из голубоватой сыворотки, какою замешивают тесто, – белые ресницы, осыпанные мукой. Кондитерские плечи, сдобная талия, тяжелый круп и могучий живот, к которому ее бабка прижимала пудовый ржаной хлеб, отрезая от него дымящиеся ломти. На дрожжах многотысячных гонораров Сорбонны великолепные возможности мадам Фурмье несколько отсырели, поползли через край, вздулись ноздреватой горой мяса, как в квашне, переливающегося в тесных и прозрачных платьях‑рубашечках, какие теперь носит модный Париж.
В кругу придворных афганских дам с их жесткой грацией бумажных цветов, нанизанных на проволочные стебли, мадам Фурмье выглядит, как кусок теста, вышлепнутого на кухонный стол. Она не входит в гарем, но вползает на своем белом, сыром животе, улыбается поясницей, кланяется студенем. Старые дворцовые служанки хихикают; евнух стоит, раскрыв рот, загипнотизированный мощным перекатыванием этого жира, охваченного припадком необузданной лакейской преданности, спазмами верноподданнических чувств перед чужой деспотией.
Мать эмира, честолюбивая и умная женщина, видевшая членов своей семьи не только на праздничных портретах, писанных придворными малярами, но и с пулей в черепе, с опухшей, черной грудью, проколотой ножом, с удивленной брезгливостью смотрит на республиканскую даму, распластавшуюся перед ней так бескорыстно и свыше всякой меры.
Расчетливый Восток не понимает идейного холопства, восторга вольноотпущенника при виде ошейника и старой хозяйской плетки. Здесь только бедные и слабые должны унижаться, чтобы выжать из себя несколько мелких и сладких капелек пота лести. Сильные же жестокосердны, горды и независимы. Сморщив подрисованные брови, застыв в невыразимо‑холодной вежливости, мать эмира потихоньку перебирает в уме не очень дорогие кольца, поношенные меха и состарившихся, но все еще видных лошадей, которыми можно было бы вознаградить эту назойливую преданность.
Фашисты в Азии
Тело Индии густо усажено белыми пиявками. Отчаянным движением ей время от времени удается оторвать от своих израненных боков отяжелевшую, сытую гроздь сосунов, но к месту отчаянного бунта по идеальным дорогам стекаются карательные отряды, броневые автомобили и артиллерия.
После обеда в клубах вальсируют, как всегда, и к хрипу и животному неистовству фокстротов примешивается шуршание воздушных флотилий, летящих к месту восстания. Танцующие улыбаются, улавливая над крышей белого, радостного дома полет этих орлиц, которые через час обрушат тысячи смертей на пылающие поселки пограничников. В течение еще недели колониальная пресса пишет о зверствах повстанцев, публикует портрет респектабельного, фланелево‑белого, шлемистого плантатора, вырезанного со всей своей розовой и круглой семьей.
Потом «Пайонир» и «Инглишмэн» в иллюстрированном приложении дадут героев, отбивших одичалую от голода толпу от белой террасы земиндара, три дня просидевшего за баррикадой, сложенной из длинных, уступчивых, располагающих к послеобеденному отдыху, шезлонгов.
Потом техника починит все взорванные мосты и вывернутые телеграфные столбы; правосудие повесит виновных, которых не успели захватить и расстрелять у поврежденных насыпей и разграбленных почтамтов.
Затем вице‑король со своей умной и сухой улыбкой старого еврея, знающего цену всему на свете, навесит дюжине аристократических дураков новенькие, как деньги, ордена.
Вице‑королева, старая Роза из чулочного магазина в Уайт‑Чепеле, еще раз упьется на старости лет царскими почестями своего сана. Дамы опустятся перед ней на одно колено почти до полу, а титулованные господа, как мальчишки, не смея шелохнуться или закурить папиросу, в ожидании станут у дверей этого вице‑величества, помазанного в государи биржей и министерскими чиновниками. Здесь, в Индии, венценосцу ростовщиков и торговцев цветной человечины воздаются истинно‑царские почести. С этикетом вице‑королевского двора не сравняются никакие тонкости и строгости старых европейских монархий. Там вольность и простота, там величество окружено роями светлостей и сиятельств, которые его считают только первым среди равных и часто пожимают плечами насчет чистоты крови и древности царствующего дома. В Индии же феодальная знать, такая избалованная на родине, наполнившая «хроники» Шекспира своей надменной вольностью, окружает вице‑короля Индии азиатскими почестями, громоздкими и унизительными для себя церемониями. Наравне с цветными она демонстрирует свою полную зависимость от короля милостью банков.
В Дели капитал священнодействует в благоговейной тишине, окруженный кольцом коленопреклоненных царедворцев, старейших и почтеннейших представителей армии, высокородных леди, чуть не до полу склонивших свой породистый пробор. Никто не смеет шевельнуться, кашлянуть, переступить с ноги на ногу. Все замерло в почтительной, священной тишине; как будто слышно затрудненное дыхание Полипа, вонзившего свой могучий хобот в сердце Индии; кажется, видно, как по трепещущим, раздутым венам течет живая влага, все еще плодоносными приливами истекающая из ее старых ран. Хлопают последние выстрелы карательных экспедиций. Вице‑королева улыбается млечному пути брильянтов, мерцающих у ее кривых, плебейских ног, и «святой» Ганди из своей тюрьмы кричит народу о непротивлении злу.
В промежутках между чисто английскими колониями паразитов ютятся представители менее победоносных торговых держав. Путаясь под ногами победителей, подбирая крохи, устремляясь ко всякому клочку белой индийской кожи, случайно мелькнувшему из‑под тучи обсевших и жрущих ее клещей, перебиваются итальянские, немецкие и другие европейские негоцианты. Особенно эти последние. Бедность делает их предприимчивыми, а громкие титулы придают коммивояжерской наглости вид аристократической непринужденности. В самой Индии эти господа едва ли могли рассчитывать на успех. Но неожиданно для них открылось новое поле действий: страшный Афганистан, которого так боятся их друзья‑англичане.
Захватив фраки и пару шелкового белья, они чуть не вприпрыжку перешли заветную границу, провожаемые сумрачным и завистливым взглядом пограничного чиновника, день и ночь охраняющего эту проклятую пустыню, съевшую столько английского золота и костей.
В Джелалабаде оба, граф и командор, «король шелковичных червей», были великолепны на фоне пустынь, голых гор и величавого безразличия, с которым Восток позволяет всякому прохожему вскарабкиваться и перелезать через свою холодную, давно уснувшую каменную грудь.
Знатные путешественники, едва окинув страну небрежным взором, прониклись невыразимым к ней презрением. Никакой наживы, ничего готового. Ни слоновой кости, которую у дикарей надлежит выменивать на водку; ни рубинов и ковров в обмен на ржавые бритвы, стеклянные бусы и красный коленкор.
Аппетиты скользнули по голым скалам Афганистана, по крупному лицу эмира, и везде сорвались, везде поскользнулись и осеклись. Взвинченные десятидневным целомудрием (ибо в этой варварской стране даже туземки не продаются), оскорбленные бедностью полей, которым нужны вонючие удобрения и тяжеловесные машины; шокированные мелочной робостью белобородых купцов, пробующих каждую монету на зуб и моментально загрязнивших и расщипавших по нитке нарядные образчики, молодые люди собрались в обратный путь.
Перед отъездом они сделали визит в большевистское полномочное представительство.
Как‑то неловко было смотреть на их лица, совершенно голые, гордящиеся полной неприкровенностью своих черт, выставивших напоказ голизну всех своих хотений, назло старым буржуазным фиговым листкам.
Все ясно в этих физиономиях, от наглого лба, от проваленных грязных глаз, холодных, как мертвая рыба, в серых прокуренных орбитах, и до пресыщенного, пренебрежительного рта, обложенного двумя скучными и жестокими рытвинами, двумя большими, вытоптанными дорогами, вдоль которых грабят и обирают, чтобы потом прожить, пропить и пролюбить со страшными рыжими самками, хлещущими этих бандитов с еще большей бесцеремонностью, чем сами они, прожорливые, беспощадные и торжествующие, поступают со своими слабейшими конкурентами.
Нет ничего удивительного в том, что маленький Афганистан при виде этих физиономий схватился за карманы и побежал пересчитывать свой каракуль, развешанный на сушильнях. Не нашлось ни одного купца, достаточно цивилизованного для того, чтобы сесть за игорный стол с двумя великолепными рвачами и в два приема, при блеске свеч и мелькании белоснежных манжет, проиграть им свою лавочку на базаре, свои ковры и свои золотые, бережно сосчитанные и висящие на груди под рубашкой в вышитом бухарском мешочке.
Но эти рвачи, вскинувшие презрительный монокль на суровую страну, не доросшую до спекуляций, ничем не отличались бы от миллиона им подобных, если бы их авантюризм не был помечен печатью убежденного и агрессивного фашизма.
Их наглая решительность значит не только «деньги ваши будут наши», но и «нет в мире такого правового, парламентского и религиозного вздора, который нам помешает содрать с вас пальто среди бела дня, намять вам затылок этими нашими белыми выхоленными руками, в которых сила, спокойствие и ловкость двух хорошо накормленных зверей».
Эти молодцы во фраках, рослые, с утюгообразными тяжелыми лицами, на которых, как следы чего‑то раздавленного, пятна глаз и рта, не лицемерят, не делают вид, что им стыдно, не говорят ненужных слов, не щадят и сами не запросят пощады у стенки. Когда слышат слово «парламент», «конституция» или «народное представительство», то как‑то по‑животному хмыкают из‑под бальных рубашек и сочувственно, с пониманием, смотрят на нас: «Вы, дескать, с этим покончили».
О России говорят с удивительным, циничным уважением, и тогда руки с большими, плоскими и чистыми ногтями тихонько начинают играть на скатерти от желания поскорее схватить за глотку единственного достойного противника. Весь мир, кроме этого СССР, лежит для них в пропасти невыразимого презрения, как добыча сильных, как трусливое и лицемерное стадо, из которого, с торжествующим рычанием, можно и должно выхватывать самых жирных баранов, чувствуя на волчьих зубах их сентиментальный запах, их шелковистую интеллигентскую шерстку, давясь их блеянием на тему о том, что «сила не есть право». Не говоря уже о классе неимущих, лежащем далеко внизу и сбрасываемом вниз, под откос, прикладами и жандармскими сапогами всякий раз, когда он обнаруживает преступное желание выбраться наверх. Эти – вне закона и пока в счет не идут.
Встречи с нами ждут, как неизбежного, после чего у мира останется только один хозяин. Найдя красное знамя Советов на этой окраине Азии, к которой, с другой стороны, вплотную пододвинулась Англия, они явились посмотреть на большевиков, вежливые и любопытные, с шерстью, которая против воли стала дыбом на волчьих загривках.
В дверях граф повернул свое тяжелое лицо и сказал с улыбкой:
«С такими противниками, как большевики, мне приятно будет встретиться на баррикадах».
Два черных поклонились, и фонарик побежал перед ними в черный сад. Точно они кого‑то вели, или их кто‑то повел к гильотине.

* * *
Книга Л. Рейснер «Афганистан» публикуется по изданию: М.‑Л., ГИЗ, 1925.