

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
С. Вайнберг
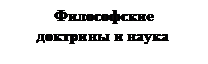 Физикам так помогают в работе субъективные и зачастую расплывчатые эстетические суждения, что можно было бы рассчитывать и на помощь со стороны философии, из которой в конце концов выросла вся наша наука. Может ли философия стать нашей путеводной нитью на пути к окончательной теории? Ценность философии для физики в наши дни напоминает мне ценность ранних национальных государств для их народов. Нe будет большим преувеличением сказать, что до введения почтовых служб главной задачей каждого национального государства было защитить свой народ от влияния других национальных государств. Точно так же взгляды философов иногда приносили пользу физикам, но главным образом в негативном смысле, защищая их от предубеждений других философов.
Физикам так помогают в работе субъективные и зачастую расплывчатые эстетические суждения, что можно было бы рассчитывать и на помощь со стороны философии, из которой в конце концов выросла вся наша наука. Может ли философия стать нашей путеводной нитью на пути к окончательной теории? Ценность философии для физики в наши дни напоминает мне ценность ранних национальных государств для их народов. Нe будет большим преувеличением сказать, что до введения почтовых служб главной задачей каждого национального государства было защитить свой народ от влияния других национальных государств. Точно так же взгляды философов иногда приносили пользу физикам, но главным образом в негативном смысле, защищая их от предубеждений других философов.
Я не собираюсь доказывать, что лучше всего физика развивается без всяких предубеждений. Всегда есть так много вещей, которые нужно сделать, так много общепринятых принципов, которые могут быть оспорены, что мы не могли бы двигаться вперед, не руководствуясь хоть какими то предубеждениями. Моя мысль заключается в том, что философские принципы, вообще говоря, не обеспечивают нас правильными предубеждениями. В поисках окончательной теории физики напоминают больше собак, чем орлов: мы носимся, вынюхивая все вокруг в поисках следов красоты, которую надеемся обнаружить в законах природы, но вряд ли мы сумели бы увидеть путь к истине с вершин философии.
Конечно, у каждого физика есть какая-то рабочая философия. Для большинства из нас – это грубый, прямолинейный реализм, т.е. убежденность в объективной реальности понятий, используемых в наших научных теориях. Однако эта убежденность достигается в процессе научных исследований, а не в результате изучения философских трудов.
|
|
Все сказанное совсем не означает отрицания ценности философии, основная часть которой не имеет никакого отношения к науке. Более того, я не собираюсь отрицать и ценность философии науки, которая в лучших своих образцах представляется мне приятным комментарием к истории научных открытий. Но не следует ожидать, что философия науки может дать в руки современных ученых какое-то полезное руководство на тему о том, как надо работать или что желательно было бы обнаружить.
Должен признать, что это понимают и многие философы. Потратив три десятилетия на профессиональные исследования в области философии науки, философ Джордж Гейл приходит к выводу, что «все эти почти недоступные простым смертным дискуссии, замешанные на схоластике, могут интересовать только ничтожное число ученых практиков». Людвиг Витгенштейн замечает: «Ничто не кажется мне менее вероятным, чем то, что чтение моих трудов может серьезно повлиять на работу какого то ученого или математика».
Дело здесь не только в интеллектуальной лености ученых. Конечно, очень мучительно прерывать свою работу и заставлять себя выучить новую дисциплину, но, когда требуется, ученые на это способны. Что касается меня, то в разные периоды жизни я вынужден был отрывать время от своих основных занятий, чтобы выучить самые разные вещи, в которых возникала необходимость – от дифференциальной топологии до системы MS DOS. Дело все в том, что не видно, где физик может использовать знание философии, не считая тех случаев, когда изучение работ отдельных философов помогает нам избежать ошибок, совершенных другими философами.
 Делая такой вывод, я должен честно признать свою ограниченность и пристрастность. Разочарование пришло после нескольких лет увлеченных занятий философией на младших курсах университета. Взгляды философов, которые я изучал, постепенно начали казаться мне расплывчатыми и непродуктивными по сравнению с поражающими воображение успехами математики и физики. С тех пор время от времени я пытался разобраться в текущей литературе по философии науки. Некоторые работы казались мне написанными на непреодолимо сложном жаргоне. Единственное, что оставалось думать, что цель этих работ – произвести впечатление на тех, кто путает неясность изложения с его глубиной. Некоторые же работы были написаны прекрасно и представляли собой хорошее, даже глубокое чтение, к примеру сочинения Людвига Витгенштейна или Пола Фейерабенда. Но лишь в редчайших случаях мне казалось, что это имеет хоть какое-то отношение к тем научным занятиям, которые были мне известны. Согласно Фейерабенду, понятие научного объяснения, разработанное рядом философов науки, столь узко, что невозможно говорить, что какая-то теория объясняется другой теорией. Эта точка зрения оставляет мое поколение физиков, занимающихся частицами, без работы.
Делая такой вывод, я должен честно признать свою ограниченность и пристрастность. Разочарование пришло после нескольких лет увлеченных занятий философией на младших курсах университета. Взгляды философов, которые я изучал, постепенно начали казаться мне расплывчатыми и непродуктивными по сравнению с поражающими воображение успехами математики и физики. С тех пор время от времени я пытался разобраться в текущей литературе по философии науки. Некоторые работы казались мне написанными на непреодолимо сложном жаргоне. Единственное, что оставалось думать, что цель этих работ – произвести впечатление на тех, кто путает неясность изложения с его глубиной. Некоторые же работы были написаны прекрасно и представляли собой хорошее, даже глубокое чтение, к примеру сочинения Людвига Витгенштейна или Пола Фейерабенда. Но лишь в редчайших случаях мне казалось, что это имеет хоть какое-то отношение к тем научным занятиям, которые были мне известны. Согласно Фейерабенду, понятие научного объяснения, разработанное рядом философов науки, столь узко, что невозможно говорить, что какая-то теория объясняется другой теорией. Эта точка зрения оставляет мое поколение физиков, занимающихся частицами, без работы.
|
|
Читателю (особенно, если он – профессиональный философ) может показаться, что ученый вроде меня, который настолько не в ладах с философией науки, должен деликатно обходить эту тему и предоставить право судить экспертам. Я знаю, как относятся философы к любительским философским потугам ученых. Но я стремлюсь здесь изложить точку зрения не философа, а рядового специалиста, неиспорченного работающего ученого, который не видит в профессиональной философии никакой пользы. Не я один разделяю такие взгляды – мне не известен ни один ученый, сделавший заметный вклад в развитие физики в послевоенный период, работе которого существенно помогли бы труды философов. В предыдущей главе я упоминал о том, что Вигнер назвал «непостижимой эффективностью» математики. Здесь я хочу указать на другое в равной степени удивительное явление – непостижимую неэффективность философии.
 Даже если в прошлом философские доктрины и оказывали какое-то полезное воздействие на ученых, влияние этих доктрин затягивалось на слишком долгое время, принося в конце концов тем больше проблем, чем дольше эти доктрины оставались в употреблении. Рассмотрим, например, почтенную доктрину механицизма, т.е. идею, что явления природы сводятся к соударениям и давлению материальных частиц или жидкостей. В древности трудно было придумать что-либо более прогрессивное. С того самого времени, как досократики Демокрит и Левкипп начали рассуждать об атомах, идея, что явления природы имеют механическую причину, противостояла популярным верованиям в богов и демонов. Эпикур, основоположник эллинизма, специально ввел в свою систему взглядов механистическое мировоззрение как противоядие против веры в богов олимпийцев. Когда в 1630-е гг. Рене Декарт попробовал осуществить великую попытку объяснить мир в рамках рациональных понятий, он, естественно, должен был описывать физические силы вроде тяготения механистически, с помощью вихрей в материальной субстанции, заполняющей все пространство. «Механистическая философия» Декарта оказала сильное влияние на Ньютона, и не потому, что она была правильна (Декарту, по-видимому, не приходила в голову столь понятная в наши дни идея о количественной проверке теорий), а потому, что давала пример механической теории, которая может иметь смысл сама по себе, вне зависимости от согласия с природными явлениями. Механицизм достиг пика своего развития в XIX в. после блистательных объяснений химических и тепловых явлений с помощью гипотезы об атомах. Даже в наши дни многим кажется, что механицизм есть просто логическая противоположность предрассудкам. В истории человеческой мысли механистическое мировоззрение сыграло несомненно героическую роль.
Даже если в прошлом философские доктрины и оказывали какое-то полезное воздействие на ученых, влияние этих доктрин затягивалось на слишком долгое время, принося в конце концов тем больше проблем, чем дольше эти доктрины оставались в употреблении. Рассмотрим, например, почтенную доктрину механицизма, т.е. идею, что явления природы сводятся к соударениям и давлению материальных частиц или жидкостей. В древности трудно было придумать что-либо более прогрессивное. С того самого времени, как досократики Демокрит и Левкипп начали рассуждать об атомах, идея, что явления природы имеют механическую причину, противостояла популярным верованиям в богов и демонов. Эпикур, основоположник эллинизма, специально ввел в свою систему взглядов механистическое мировоззрение как противоядие против веры в богов олимпийцев. Когда в 1630-е гг. Рене Декарт попробовал осуществить великую попытку объяснить мир в рамках рациональных понятий, он, естественно, должен был описывать физические силы вроде тяготения механистически, с помощью вихрей в материальной субстанции, заполняющей все пространство. «Механистическая философия» Декарта оказала сильное влияние на Ньютона, и не потому, что она была правильна (Декарту, по-видимому, не приходила в голову столь понятная в наши дни идея о количественной проверке теорий), а потому, что давала пример механической теории, которая может иметь смысл сама по себе, вне зависимости от согласия с природными явлениями. Механицизм достиг пика своего развития в XIX в. после блистательных объяснений химических и тепловых явлений с помощью гипотезы об атомах. Даже в наши дни многим кажется, что механицизм есть просто логическая противоположность предрассудкам. В истории человеческой мысли механистическое мировоззрение сыграло несомненно героическую роль.
|
|
Но в этом как раз и состоит проблема. В науке, как в политике или экономике, большую опасность представляют идеи, пережившие эпоху своей полезности. Героическое прошлое механицизма так подняло его престиж, что последователям Декарта было очень трудно принять ньютоновскую теорию Солнечной системы. Как мог порядочный картезианец, уверовавший в то, что все явления природы могут быть сведены к непосредственному влиянию материальных тел или жидкостей друг на друга, принять точку зрения Ньютона, согласно которой Солнце действует на Землю с определенной силой сквозь 150 000 000 километров пустого пространства? Только в XVIII в. европейские философы начали свыкаться с идеей действия на расстоянии. В конце концов, начиная с 1720г., ньютоновские идеи возобладали в европейских странах, сначала в Англии, а затем в Голландии, Италии, Франции и Германии (именно в таком порядке). Отчасти это произошло в результате влияния таких философов, как Вольтер и Кант. Но и здесь мы видим, что роль философии была негативной: она помогла освободить науку от пут самой философии.
|
|
Даже после триумфа ньютонианства механистическая традиция продолжала плодоносить в физике. Теории электрического и магнитного полей, разработанные в XIX в. Майклом Фарадеем и Джеймсом Клерком Максвеллом, были обрамлены в механистическую форму и изложены с помощью понятия о напряжениях во всепроницающей физической среде, часто называемой эфиром. Физики XIX в. вели себя совсем не глупо – чтобы продвигаться вперед, любой физик нуждается в каком-то качественном мировоззрении, а механистическое мировоззрение казалось в те годы ничем не хуже других взглядов. К сожалению, это мировоззрение продержалось слишком долго.
Окончательный поворот от механицизма в электромагнитной теории произошел в 1905г., после того как эйнштейновская специальная теория относительности отвергла эфир и заменила его пустым пространством – средой, переносящей импульсы электромагнитных волн. Но даже тогда механистический взгляд на мир довлел над физиками старшего поколения. Кроме того, механицизм распространился за пределы науки и прижился там, принеся позднее много неприятностей ученым. В XIX в. героическая традиция механицизма была, к сожалению, включена в систему диалектического материализма Маркса и Энгельса и их последователей. Ленин, находясь в эмиграции, написал в 1908г. напыщенную книгу о материализме, и хотя для него эта книга была главным образом средством борьбы с другими революционерами, цитаты из нее стали священным писанием для его последователей, так что некоторое время диалектический материализм стоял на пути признания общей теории относительности в Советском Союзе. Еще в 1961г. выдающийся русский физик Владимир Фок вынужден был защищать себя от нападок философов-ортодоксов. Предисловие к его монографии «Теория пространства, времени и тяготения» содержит примечательное высказывание: «Философская сторона наших взглядов на теорию пространства, времени и тяготения сформировалась под влиянием философии диалектического материализма, в частности под влиянием труда Ленина “Материализм и эмпириокритицизм”».
Но в истории науки не бывает все так просто. Хотя после трудов Эйнштейна в серьезных исследованиях по физике и не осталось места наивному механистическому мировоззрению, некоторые его элементы все же сохранились в физике первой половины ХХ в. С одной стороны, были обнаружены материальные частицы – электроны, протоны, нейтроны, – образующие обычное вещество. С другой стороны, были известны поля – электрическое, магнитное и гравитационное, которые порождались частицами и оказывали на них силовое воздействие. В 1929 г. физики стали склоняться к объединяющей точке зрения. Вернер Гейзенберг и Вольфганг Паули установили, что частицы и силы есть проявления более глубокого уровня реальности, а именно уровня квантовых полей. Несколькими годами ранее квантовая механика была применена для описания электрических и магнитных полей и подтвердила гипотезу Эйнштейна о частицах света – фотонах. Гейзенберг и Паули предположили, что не только фотоны, но все частицы являются сгустками энергии различных полей. В рамках этой квантовой теории поля электроны есть сгустки энергии электронного поля, нейтрино есть сгустки энергии нейтринного поля и т.д.
|
|
Несмотря на такой поразительный вывод, все же большая часть работ по взаимодействию фотонов и электронов в 30-е и 40-е гг. делалась в рамках старой дуалистичной квантовой электродинамики, где фотоны рассматривались как сгустки энергии электромагнитного поля, а электроны – просто как частицы вещества. Если ограничиться только фотонами и электронами, то квантовая теория поля приводит к тем же результатам, что и квантовая электродинамика. Но к тому времени, как я стал в 50-е гг. старшекурсником, квантовая теория поля была практически везде признана как правильная основа фундаментальной физики. В тех рецептах устройства мира, которые прописывали физики, список ингредиентов уже включал не частицы, как раньше, а лишь несколько сортов полей.
Мораль этой истории в том, что глупо думать, будто можно предвидеть даже те понятия, в рамках которых будет сформулирована будущая квантовая теория поля. Ричард Фейнман заметил однажды, что когда журналисты спрашивают об окончательных теориях, употребляя такие понятия, как окончательный список частиц или окончательное объединение всех сил природы, мы на самом деле даже не знаем, правомочны ли такие вопросы. Непохоже, что старое наивное механистическое мировоззрение возродится вновь или мы вернемся к дуализму частиц и полей, но и квантовая теория поля – не последнее слово в науке. Есть трудности со включением гравитации в рамки квантовой теории поля. Пытаясь преодолеть их, физики сравнительно недавно предложили вариант окончательной теории, в котором сами квантовые поля есть всего лишь низкоэнергетические проявления пространственно-временных нерегулярностей, получивших название струн. Складывается впечатление, что мы не знаем правильных вопросов до тех пор, пока не приближаемся к знанию правильных ответов.
Мне кажется совершенно невероятным, что позитивистский подход может быть полезным в будущем. Метафизика и эпистемология по крайней мере старались играть конструктивную роль в науке. Не так давно наука подверглась атаке со стороны недружественных комментаторов, объединившихся под знаменем релятивизма. Философы-релятивисты отрицают стремление науки к открытию объективной истины; они рассматривают ее всего лишь как еще одно социальное явление, не более фундаментальное, чем культ плодородия или шаманство.
Философский релятивизм частично уходит корнями в сделанное философами и историками науки открытие, что в процессе признания научных идей очень много субъективизма. Мы уже обсуждали ту роль, которую играют эстетические суждения в признании или отрицании новых физических теорий. Для ученых все это давно известно (хотя философы и историки науки пишут иногда так, как будто мы слышим об этом в первый раз). В знаменитой книге «Структура научных революций» Томас Кун сделал следующий шаг и попытался доказать, что во время научных революций те понятия (или парадигмы), с помощью которых ученые оценивают теории, сами меняются, так что новые теории просто нельзя судить по дореволюционным стандартам. Многое в книге Куна полностью соответствует моему собственному опыту в науке. Но в последней главе Кун упорно атаковал ту точку зрения, что развитие науки приближает нас к объективной истине: «Мы можем, точнее говоря, должны отказаться от представления, явного или неявного, что изменения парадигмы приближают ученых и их последователей все ближе и ближе к истине». Позднее книга Куна, кажется, стала читаться (или, по крайней мере, цитироваться) как манифест общей атаки на предполагаемую объективность научного знания.
Вайнберг С. Мечты об окончательной теории
// http://krotov.info/lib_sec/03_v/vay/berg_03.htm
Вопросы для самоконтроля:
1. Что является рабочей философией каждого физика?
2. С чем связывает автор «непостижимую неэффективность» философии?
3. Каковы границы эффективности доктрины механицизма?
4. Почему взгляды Т. Куна на развитие науки в отдельных случаях интерпретируются в субъективистском ключе?
5. Каковы корни философского релятивизма?
6. В чем автор видит позитивную роль метафизики и эпистемологии в науке?
М. Вартофский
 Я попытаюсь обосновать утверждение, что ни один из них (К. Поппер, Дж. Агасси, Т. Кун – А.Ш.) в своих рассуждениях о метафизике не идет достаточно далеко. Я буду далее не просто утверждать, что метафизика исторически была и продолжает быть эвристическим средством для научного исследования и построения теорий, а постараюсь показать, что она необходима и для тех ученых, которые ее признают, и для тех, которые ее отвергают. Затем я покажу, почему метафизика является эвристикой и каким образом она функционирует. Коротко говоря, я буду утверждать, что метафизика представляет собой наиболее общий метод критического и систематического формирования альтернативных концептуальных структур, только в рамках которых возможно теоретическое познание, и буду защищать тезис, что эвристическая сила метафизики заключается в ее тесной связи с нашими исходными способами понимания и объяснения: посредством речевого рассказа, изображающего природу средствами языка. Я буду защищать тезис, что эти исходные способы понимания метафизика изображает в совершенно ясной (и, следовательно, допускающей критику) форме в виде трех фундаментальных свойств: референции, структуры и абстракции, а эти свойства в свою очередь являются условиями создания научной теории.
Я попытаюсь обосновать утверждение, что ни один из них (К. Поппер, Дж. Агасси, Т. Кун – А.Ш.) в своих рассуждениях о метафизике не идет достаточно далеко. Я буду далее не просто утверждать, что метафизика исторически была и продолжает быть эвристическим средством для научного исследования и построения теорий, а постараюсь показать, что она необходима и для тех ученых, которые ее признают, и для тех, которые ее отвергают. Затем я покажу, почему метафизика является эвристикой и каким образом она функционирует. Коротко говоря, я буду утверждать, что метафизика представляет собой наиболее общий метод критического и систематического формирования альтернативных концептуальных структур, только в рамках которых возможно теоретическое познание, и буду защищать тезис, что эвристическая сила метафизики заключается в ее тесной связи с нашими исходными способами понимания и объяснения: посредством речевого рассказа, изображающего природу средствами языка. Я буду защищать тезис, что эти исходные способы понимания метафизика изображает в совершенно ясной (и, следовательно, допускающей критику) форме в виде трех фундаментальных свойств: референции, структуры и абстракции, а эти свойства в свою очередь являются условиями создания научной теории.
Таким образом, выдвигаемый мною тезис должен объяснить научное образование понятий, а не являться ни простым описанием фактов, ни тезисом, относящимся только к истории идей. Он связан с вопросом, имеет ли метафизика познавательное значение (и является ли она в некотором смысле истинной или ложной), и с различием между хорошей и плохой метафизикой.
<…> Метафизика в качестве наиболее общего и абстрактного теоретического исследования дает нам ясное представление о структуре теорий. Основными признаками, которые обнаруживаются в любой достойной изучения метафизической системе, являются: 1) систематическая структура, 2) референция, 3) абстракция. В связи с этим метафизика описывает наиболее общую схему концептуальных моделей. Поскольку я хочу обосновать утверждение, что к пониманию мы приходим только на основе данных концептуальных моделей, постольку метафизика — задавая наиболее общее и абстрактное истолкование условий, при которых что-либо может быть понято,— становится эвристикой для научного понимания. Такое общее утверждение может внушить мысль, что почти все, используемое для понимания, представляет собой метафизику. <…> я должен отметить, что считать метафизику несущественной — значит считать несущественной рациональность, ибо метафизика представляет собой практическое воплощение рациональности в ее наиболее теоретичной форме и поэтому метафизика обусловливает теоретическое понимание <…>.
Таким образом, попытка избежать, освободиться или уклониться от изучения метафизики ошибочна, потому что она делает нас жертвой некритически заимствованных идей и освобождает дорогу осознанным или неосознанным догмам.
Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке
// Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки. Сост., вступ. Статья и общ. Ред. Б.С. Грязнова и В.Н. Садовского. М.: Прогресс, 1978. – С. 43-44; 84-85; 86.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается эвристическая сила метафизики?
2. Какие фундаментальные свойства являются условиями создания научной теории?
3. Укажите необходимые условия понимания.
4. Почему метафизика становится эвристикой для научного понимания?
5. К каким негативным последствиям может привести отказ от изучения метафизики?
М. Вартофский
 Итак, я говорю о метафизике как об эвристике, которая помогает ученому понять, что он делает, а не просто описывает, как он приходит к тому, что он делает. Метафизика является эвристикой, которая руководит построением теорий в той степени, в какой понимание в науке является продуктом теоретического объяснения и опирается на использование теоретических моделей. В связи с этим цель науки не получение успешных предсказаний, а достижение того рационального понимания, которое делает возможной рациональную практику научных предсказаний (в противоположность случайному или «счастливому» угадыванию).
Итак, я говорю о метафизике как об эвристике, которая помогает ученому понять, что он делает, а не просто описывает, как он приходит к тому, что он делает. Метафизика является эвристикой, которая руководит построением теорий в той степени, в какой понимание в науке является продуктом теоретического объяснения и опирается на использование теоретических моделей. В связи с этим цель науки не получение успешных предсказаний, а достижение того рационального понимания, которое делает возможной рациональную практику научных предсказаний (в противоположность случайному или «счастливому» угадыванию).
И все-таки почему же метафизика должна быть эвристикой? Чем это обусловлено? Я предполагаю, что причина этого кроется в том, что метафизика своими корнями уходит в наиболее глубокий и наиболее сокровенный опыт первичного человеческого понимания и связана с наиболее общими средствами достижения понимания и обучения пониманию, а именно с речевым рассказом, с человеческой языковой коммуникацией <…>.
<…> Рассматриваемый метафизический тезис является не чем иным, как систематической и общей формулировкой нашего глубочайшего убеждения в том, что существует реальность, которая может быть познана, и что эта реальность не зависит от места, времени или личности. То есть что она является одной и той же — «одной» для каждого человека в любое время и в любом месте. Логика этого убеждения глубока и в то же время крайне проста; только отталкиваясь от этого исходного пункта (единства реальности и истины), имеет смысл говорить об относительности, неполноте, критикуемости наших концепций, наших теорий и наших моделей. Внимайте не мне, а логосу, говорит Гераклит, давая исторически первую формулировку подлинной метафизики. Ньютон сделал это убеждение одним из «правил философии» в своих «Началах», однако сформулировал его в космологических терминах — в терминах единообразия природы. П. Дюгем считал это убеждение актом веры, выходящим за пределы науки <…>.
Настоящий же ученый, видимо, начинает с рассмотрения предположений здравого смысла, с обнаружения их неопределенности и неадекватности по отношению к четко очерченной области истин, уже открытых наукой. Но даже такой ученый в конце концов придет к некоторому убеждению — пусть временному и вызывающему его сомнения,— а именно к убеждению, что познание носит кумулятивный характер и что наука является проникновением в истину, а не угадыванием вслепую. Сдержанность и скепсис (или страх перед научным скандалом) могут снизить роль и степень убежденности ученого в его метафизических предположениях, ибо Абсолют, проклятый Джемсом, все еще остается страшным пугалом. Тем не менее утверждение о приблизительной истинности научных предложений порождает утверждение о существовании истины, к которой пытаются приблизиться. Именно на это метафизическое убеждение в существовании объективности или объективной истины и опирается эвристическая функция метафизики в науке.
 <…> Итак, мои аргументы заключаются в следующем: 1.Метафизика выражает в систематической и явной форме наиболее глубокие и характерные особенности здравого смысла. Здравый же смысл представляет собой то множество общедоступных и в значительной мере неявных концептуальных конструкций (принципов действия, максим, правил, убеждений), которые выдержали огромное множество строгих и длительных испытаний в общественной практике людей, в развитии их культуры и в межкультурных взаимодействиях, благодаря чему о них можно говорить как о человеческих универсалиях. Таким образом, я рассматриваю здравый смысл как естественный и социальный продукт эволюции, начавшейся по крайней мере с возникновения речи и в ходе которой осуществлялся определенный отбор в результате проверки общественной практикой и опытом, путем сурового испытания в процессе социальных изменений. Сказанное, конечно, не означает, что здравый смысл при переходе от одной культуры к другой остается тем же самым; наоборот, следует предположить, что он изменяется вместе с изменением опыта. Я не утверждаю также, что здравый смысл представляет собой некую эксплицитно сформулированную систему — вполне допустимо, что понятия здравого смысла противоречивы, неполны и несовместимы одно с другим, поскольку они не подвергались рациональной критике, которая необходима при систематическом построении знания. Вместе с тем в тех областях, в которых понятия здравого смысла сохраняются и используются, сохраняется и соответствующая форма опыта, которая образуется с помощью этих понятий, и эта форма может считаться «постоянной», или «универсальной». Критика же любого опыта носит общий характер и является источником философского мышления независимо от того, будет ли она этической критикой убеждений и действий или космологической критикой мифов. Отличительным признаком критики является то, что она всегда направлена против «устойчивых» или «универсальных», догм, которые некритичный здравый смысл превращает в конце концов в системы достаточно четких мнений и действий. Однако элементы этих систем — соответствующие законы, ритуалы, принципы, мифы, правила поведения, запреты и т. д. — выходят за рамки молчаливо принимаемого содержания здравого смысла, придавая ему критикуемую, но еще не критичную форму. В процессе осуществления всего этого огромного множества корректировок здравого смысла и возникает метафизика. Поскольку же метафизика по своей форме должна быть систематической и ясно выраженной, она вскрывает непоследовательности и противоречия в здравом смысле и выступает с критикой здравого смысла. Это, как представляется, должно было бы сделать здравый смысл первой жертвой критики, и то обстоятельство, что он — несмотря на это — сохраняется на протяжении многих веков, говорит, по-видимому, о его полной невосприимчивости к критике. А может быть, здесь начинают действовать силы, вызывающие изменения в самом здравом смысле, так как с появлением критики изменяются формы общего человеческого опыта - теперь обычный человеческий опыт и социальная практика включают в себя не только правила действия в определенных ситуациях, не только унаследованные структурные особенности организма, но также и критическое рассуждение. Наш здравый смысл обусловлен не просто некоторыми простыми формами элементарной практической деятельности человека, а представляет собой продукт общих наследственных элементов человека и общего человеческого обучения, которое испытало на себе — может быть, в неявных и искаженных формах — влияние философских, научных, религиозных, политических и эстетических теорий, страстей, стилей и догм, то есть всего того, что в такой же степени является составной частью структуры здравого смысла, в какой входят в эту структуру представления о твердых телах, сквозь которые человек не может пройти, или о существовании мышления других людей, с которыми мы общаемся. Именно «устойчивые элементы» и «универсалии» этой структуры и есть то, что метафизика пытается сначала сформулировать систематическим образом, а затем подвергнуть критике. Однако эта двойная функция неизбежно порождает противоречие в самой сердцевине метафизического исследования, что часто характеризуется как двойственность философии, а именно наличие в ней спекулятивного рассуждения и критики. Метафизика представляет собой критику того, что считается устойчивым и универсальным, и в то же время она призвана формулировать общие утверждения. Характерный для метафизики интерес к тому, что может быть универсализировано, обобщено, подведено под некоторый принцип, так широко распространен в истории философии, что осознание его источника и методов его реализации, как правило, отсутствует. В абстрактных, выхолощенных и наивно студенческих вариантах метафизики (то есть в плохой метафизике или в мифической метафизике, описываемой в учебниках или карикатурно изображенной в работах ранних позитивистов) она выглядит просто как безудержная поэтическая спекуляция относительно мрачного, пышного, эфемерного или субстанциального абсолюта. Печально то, что такого рода варианты метафизики препятствуют как настоящей критике ее, так и ее правильному пониманию. В более серьезных изложениях метафизики, учитывающих соответствующие исторические, социальные и технологические условия, роль метафизики в выявлении и критике наиболее характерных особенностей здравого смысла становится яснее. В этом случае также выясняется, что философская критика, проводимая метафизикой, является составной частью проверки понятий здравого смысла и способствует тому процессу отбора, благодаря которому развивается наш здравый смысл.
<…> Итак, мои аргументы заключаются в следующем: 1.Метафизика выражает в систематической и явной форме наиболее глубокие и характерные особенности здравого смысла. Здравый же смысл представляет собой то множество общедоступных и в значительной мере неявных концептуальных конструкций (принципов действия, максим, правил, убеждений), которые выдержали огромное множество строгих и длительных испытаний в общественной практике людей, в развитии их культуры и в межкультурных взаимодействиях, благодаря чему о них можно говорить как о человеческих универсалиях. Таким образом, я рассматриваю здравый смысл как естественный и социальный продукт эволюции, начавшейся по крайней мере с возникновения речи и в ходе которой осуществлялся определенный отбор в результате проверки общественной практикой и опытом, путем сурового испытания в процессе социальных изменений. Сказанное, конечно, не означает, что здравый смысл при переходе от одной культуры к другой остается тем же самым; наоборот, следует предположить, что он изменяется вместе с изменением опыта. Я не утверждаю также, что здравый смысл представляет собой некую эксплицитно сформулированную систему — вполне допустимо, что понятия здравого смысла противоречивы, неполны и несовместимы одно с другим, поскольку они не подвергались рациональной критике, которая необходима при систематическом построении знания. Вместе с тем в тех областях, в которых понятия здравого смысла сохраняются и используются, сохраняется и соответствующая форма опыта, которая образуется с помощью этих понятий, и эта форма может считаться «постоянной», или «универсальной». Критика же любого опыта носит общий характер и является источником философского мышления независимо от того, будет ли она этической критикой убеждений и действий или космологической критикой мифов. Отличительным признаком критики является то, что она всегда направлена против «устойчивых» или «универсальных», догм, которые некритичный здравый смысл превращает в конце концов в системы достаточно четких мнений и действий. Однако элементы этих систем — соответствующие законы, ритуалы, принципы, мифы, правила поведения, запреты и т. д. — выходят за рамки молчаливо принимаемого содержания здравого смысла, придавая ему критикуемую, но еще не критичную форму. В процессе осуществления всего этого огромного множества корректировок здравого смысла и возникает метафизика. Поскольку же метафизика по своей форме должна быть систематической и ясно выраженной, она вскрывает непоследовательности и противоречия в здравом смысле и выступает с критикой здравого смысла. Это, как представляется, должно было бы сделать здравый смысл первой жертвой критики, и то обстоятельство, что он — несмотря на это — сохраняется на протяжении многих веков, говорит, по-видимому, о его полной невосприимчивости к критике. А может быть, здесь начинают действовать силы, вызывающие изменения в самом здравом смысле, так как с появлением критики изменяются формы общего человеческого опыта - теперь обычный человеческий опыт и социальная практика включают в себя не только правила действия в определенных ситуациях, не только унаследованные структурные особенности организма, но также и критическое рассуждение. Наш здравый смысл обусловлен не просто некоторыми простыми формами элементарной практической деятельности человека, а представляет собой продукт общих наследственных элементов человека и общего человеческого обучения, которое испытало на себе — может быть, в неявных и искаженных формах — влияние философских, научных, религиозных, политических и эстетических теорий, страстей, стилей и догм, то есть всего того, что в такой же степени является составной частью структуры здравого смысла, в какой входят в эту структуру представления о твердых телах, сквозь которые человек не может пройти, или о существовании мышления других людей, с которыми мы общаемся. Именно «устойчивые элементы» и «универсалии» этой структуры и есть то, что метафизика пытается сначала сформулировать систематическим образом, а затем подвергнуть критике. Однако эта двойная функция неизбежно порождает противоречие в самой сердцевине метафизического исследования, что часто характеризуется как двойственность философии, а именно наличие в ней спекулятивного рассуждения и критики. Метафизика представляет собой критику того, что считается устойчивым и универсальным, и в то же время она призвана формулировать общие утверждения. Характерный для метафизики интерес к тому, что может быть универсализировано, обобщено, подведено под некоторый принцип, так широко распространен в истории философии, что осознание его источника и методов его реализации, как правило, отсутствует. В абстрактных, выхолощенных и наивно студенческих вариантах метафизики (то есть в плохой метафизике или в мифической метафизике, описываемой в учебниках или карикатурно изображенной в работах ранних позитивистов) она выглядит просто как безудержная поэтическая спекуляция относительно мрачного, пышного, эфемерного или субстанциального абсолюта. Печально то, что такого рода варианты метафизики препятствуют как настоящей критике ее, так и ее правильному пониманию. В более серьезных изложениях метафизики, учитывающих соответствующие исторические, социальные и технологические условия, роль метафизики в выявлении и критике наиболее характерных особенностей здравого смысла становится яснее. В этом случае также выясняется, что философская критика, проводимая метафизикой, является составной частью проверки понятий здравого смысла и способствует тому процессу отбора, благодаря которому развивается наш здравый смысл.
Нам нужно теперь сделать некоторые уточнения для того, чтобы сформулировать в четкой форме естественное следствие рассматриваемого тезиса. Наука, будучи продолжением критической и конструктивной функций метафизики, сама осуществляет проверку мнений и принципов здравого смысла. Однако это возможно лишь тогда, когда такая проверка является эксплицитной и рационально связанной со здравым смыслом, то есть когда наука не столь эзотерична, а здравый смысл не столь туп и закостенел, что проверка одного посредством другого становится невыполнимой. Задача современной философии науки в значительной степени заключается в том, чтобы таким образом сопоставить наш нынешний здравый смысл с содержанием наших научных теорий, чтобы стала возможна его научная проверка. При этом происходит и критика научных понятий как простое следствие такого сопоставления. Поэтому Ф. Франк был абсолютно прав в данной им характеристике философии науки как моста, соединяющего естественные науки с гуманитарным знанием… <…>
Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке
// Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки. Сост., вступ. Статья и общ. Ред. Б.С. Грязнова и В.Н. Садовского. М.: Прогресс, 1978. – С.89-90, 99, 100-101,101-104.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какую роль метафизика играет в познавательной деятельности?
2. Чем обусловлена эвристическая роль метафизики?
3. В чем цель науки?
4. Что содержательно утверждает метафизический тезис?
5. Кто первым из философов сформулировал задачи метафизики?
6. На какие метафизические убеждения опирается эвристическая функция метафизики в науке?
7. В какой степени метафизика выражает особенности здравого смысла?
8. Что собой представляет здравый смысл?
9. Поясните утверждение, что метафизика является критикой здравого смысла.
10. Что автор понимает под выражением «плохая метафизика»?
11. Поясните высказывание автора, что наука является продолжением «критической и конструктивной функции метафизики».
12. В чем, с точки зрения автора, заключается задача современной философии науки?
М. Вартофский
 Таким образом, структуры метафизических систем выводятся из структур, в рамках которых сформулированы понятия здравого смысла, и в конечном счете из структур обыденного поведения и естественного опыта человеческого общества. Можно предположить далее, что основной путь выявления этих структур состоит в изучении их явного или неявного выражения в языке. <…> Подлинными условиями существования языка и коммуникации <…> являются те условия, которые в относительно абстрактной форме выражаются в метафизике, а именно систематическая структурность, референциальность и абстрактность. <…> повествовательная функция языка в качестве определенного артефакта является необходимым условием его развития <…>. В своём существенном содержании как некая структура язык — если отвлечься от чисто формального, синтаксического его изображения или от теории его структуры — воплощает в себе и помогает сформулировать «гипотезы» здравого смысла. Я склонен подозревать, что наиболее распространенные и устойчивые (с точки зрения первичного опыта) из этих гипотез внедрились в структуру самого языка. Это означает, что они очень мало поддаются изменениям и обладают определенной автономией. <…>
Таким образом, структуры метафизических систем выводятся из структур, в рамках которых сформулированы понятия здравого смысла, и в конечном счете из структур обыденного поведения и естественного опыта человеческого общества. Можно предположить далее, что основной путь выявления этих структур состоит в изучении их явного или неявного выражения в языке. <…> Подлинными условиями существования языка и коммуникации <…> являются те условия, которые в относительно абстрактной форме выражаются в метафизике, а именно систематическая структурность, референциальность и абстрактность. <…> повествовательная функция языка в качестве определенного артефакта является необходимым условием его развития <…>. В своём существенном содержании как некая структура язык — если отвлечься от чисто формального, синтаксического его изображения или от теории его структуры — воплощает в себе и помогает сформулировать «гипотезы» здравого смысла. Я склонен подозревать, что наиболее распространенные и устойчивые (с точки зрения первичного опыта) из этих гипотез внедрились в структуру самого языка. Это означает, что они очень мало поддаются изменениям и обладают определенной автономией. <…>
Вводя концептуальные модели в качестве четких, явных объектов критики, метафизика открывает путь для критики основ нашего понимания. Она делает концептуальную модель не только практическим инструментом, используемым для понимания, но и объектом понимания — объектом специального исследования. Таким образом, метафизика открывает возможность концептуальной критики, представляя объект такой критики в четком и ясном виде, так как без эксплицитно сформулированного теоретического объекта его строгая критика невозможна. И в этой своей двойной функции — выражение и критики концептуальных моделей — метафизика выступает как эвристика для научного понимания: она само критично исследует свои собственные основания. (Конечно, отнюдь не каждый метафизик поступает таким образом в отношении своей собственной системы, однако метафизическая традиция такова, что, если он сам не провел анализа своей системы, это обязательно сделает кто-то другой.) И только в том случае, когда эта традиция забывается, когда метафизика считается свободной от всякой критики, она вырождается в неметафизический ритуал и догму. Это объясняет, почему изучение истории метафизики — альтернативных и несовместимых метафизических систем и длительной и строгой критики этих систем — само является эвристикой для понимания. Иногда — в великие моменты своей истории — метафизика была созидающей и самокритичной в одном лице: примером этого может служить Платон, который в «Пармениде» подверг критике свою теорию форм, — однако такие случаи редки и нетипичны. Итак, требование общности критики, предвещающее образование научного сообщества, является центральным для метафизики как основное условие рациональности.
И наконец, метафизика есть эвристика для науки благодаря тому, что она создает основные модели научного понимания. Являясь своего рода упражнением для получения навыков самокритичного построения теорий, метафизика не только создает для науки ее первичные модели, но — что, может быть, еще более важно — формулирует условия концептуальной структуры любой модели как условия понимания. Мы понимаем что-то не просто в силу того, что оно представлено в некоторой концептуальной модели; понимание достигается в результате того, что любая концептуальная модель в качестве некоторой формы гармонирует с первичным опытом самого понимания, с историей и структурой языка, осуществляющего повествовательную функцию. В настоящее время наука не является «рассказом» в каком-либо ясном смысле этого слова, поэтому неправильно рассматривать метафизику как средство перехода от научных теорий и моделей к их «переводам» на обычный язык или к выражению их в понятиях здравого смысла, ибо такой перевод не имеет никакого отношения к научному пониманию, а связан лишь с популяризацией науки. Именно поэтому ошибочно мнение Ф. Франка, который в свое время смешал источники метафизики, коренящиеся в здравом смысле, с понятием метафизики как обыденной вульгаризации науки.
В моем вышеприведенном рассуждении я пытался показать, что даже на наиболее развитых уровнях научной теории образование понятий и концептуальных моделей несет на себе отпечаток тех структур, которые разговорная речь выражает в конкретных образах, а метафизика развивает в крайне абстрактных системах и которые, я считаю, восходят в своих истоках к первоначальным попыткам человека добиться понимания. При этом я не опираюсь на понятия известного и неизвестного, как это имеет место в тех аргументациях, в которых научное объяснение рассматривается как выражение неизвестного в форме известного. Это означало бы отождествление поверхностной, или внешней, структуры речи с ее глубинной структурой. И хотя то, что я предлагаю, может показаться похожим на кантовские априорные формы понимания, я считаю, что эти формы как и сам язык, возникли и развивались в процессе общественной практики людей. В этом смысле метафизика не является эвристикой для понимания науки людьми, далекими от нее; она, скорее, представляет собой соединительный мост между передовой и разумной научной практикой<
|
|
|

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!