В конце лета 1941 года началась массовая эвакуация людей и ценностей из Ленинграда. Ахматова вместе с другими добралась сначала до Москвы, а 14 октября оказалась в писательском эшелоне, идущем в Казань и Чистополь. Ехали в жестком вагоне; негромкий разговор Ахматовой с Пастернаком: «такая огромная страна, такая огромная война... откроют двери тюрем и выпустят на волю невинных»* После Казани — пароходом — по Каме. На Ахматовой — дымчатые бусы. Маргарита Али-гер, оказавшаяся с ней в одной каюте, обратила на них внимание. «Это подарок Марины»...
Путь Ахматовой лежал далеко на восток— в «хлебный город» Ташкент.
В Ташкенте эвакуированных писателей разместили в большом доме на улице Карла Маркса; на дворе — осень, непролазная грязь; из окон — стрекот машинок. Хорошо, что все комнаты отдельные. Иногда Ахматова прикалывала к двери объявление: чтобы не беспокоили, когда работает. Записки эти исчезали быстро — забирали на память: как-никак автограф.
Позднее она перебралась на улицу Жуковскую; жила в глубине двора — вместе с тополем, что серебрился по ночам. Была и шаткая лесенка «на балахану», по которой приходилось подниматься. Этот дом перейдет в ее стихи.
Вместе с домом переберется в творчество и сам Ташкент, с его удивительной планировкой — по кругу — как в Мекке. Ахматова любила бродить по городу пешком. Э. Бабаев так описал одну из прогулок: «Ахматова своей осанкой, странным обликом неизменно привлекала внимание прохожих. Некоторые раскланивались с ней, часто у нее спрашивали дорогу. Один старик на белом ослике, видимо приехавший из деревни, почтительно спросил у нее, как проехать на Туркестанский базар.
— Ну чудеса...— говорили о ней.— Все можно было ожидать, но чтобы у Ахматовой спросили в Ташкенте, где здесь Туркестанский базар!.. /1, 408/
Была и в госпиталях — ходила читать раненым стихи. В одной из палат лежал юноша с тяжелым ранением — боялись, не выживет. Ахматова села рядом, стала читать — и он вдруг улыбнулся... Выжил. Одна из моло-
деньких медсестер вышла за него замуж, Ахматову он называл спасительницей.
Она и сама часто болела: ш сразу по приезде, и позднее — брюшным тифом; болела так сильно, что даже почти в беспамятстве брала образок со спинки кровати и клала на грудь. В больнице написала:
Меня под землю не надо б, Я одна — рассказчица.»
К. Чуковский вспоминал из ее ташкентских дней такую историю: «Однажды кто-то принес ей в подарок несколько кусков драгоценного сахара. Горячо поблагодарила дарителя, но через минуту, когда он ушел и в комнату вбежала пятилетняя дочь одного из соседей, отдала ей весь подарок.
— С ума я сошла, чтобы теперь самой есть сахар...»
/1,50/
В Ташкенте, к счастью, она не была одинока — часто подолгу жила у Елены Сергеевны Булгаковой; читала вслух «Мастера и Маргариту», перебивая саму себя: «Это гениально!..» Очень близким ей человеком стала замечательная актриса Фаина Георгиевна Раневская, шутливо жаловавшаяся Ахматовой» что ее постоянно провожают фразой: «Муля, не нервируй меня». Раневская была удивительным человеком — она буквально заводила Анну Андреевну, заставляя ее смеяться до слез, особенно когда она начинала переделывать на мотив какого-нибудь заезженного романса ее стихи и изображать из себя «доморощенную певицу».
Однджды летом в знойный полдень, когда страшно было н$ улицу выйти, прибежала к Раневской — услышала по радио сообщение, что Муссолини свергнут: «Вщ понимаете, ведь это уничтожена колыбель фашизма... Это надо отметцть, Фаине!» И тут же появился кувшин разливного дешевого вина...
Она не могла не следить за войной — уже хотя бы потому, что была матерью солдата — ее сын Лев ушел на фронт...
В мае 1944 года Ахматова прилетела в весеннюю Москву, «оживленная, преображенная, молодая и прекрасная; подняла свою знаменитую челку; все было замечательно: ее сын был жив и здоров, ее город был свобо-
ден—-уехала в Ленинград, как улетела, полная добрых. надежд» /1, 352—354/.
Той весной она действительно была откровенно счастливая. Оказалось, ненадолго...
В августе 1946 года прошел с успехом вечер памяти Блока в Ленинградском Большом драматическом театре. Когда Ахматова появилась на сцене, все присутствовавшие в зале, стоя, с жаром и восторгом приветствовали ее. Это был триумф — не забыта. Потом вечер в Москве, где она читала стихи вместе с Пастернаком; говорят, даже заплакала, когда Борис Леонидович прочитал фрагменты ее «Реквиема».
Казалось, страшное время ежовщияы прошло — великий народ одержал великую победу; неужели снова повсеместно прорастет страх?
В самом конце августа в Смольном выступил с докладом А. Жданов: а следом за выступлением — знаменитое постановление ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград».
«Анна Ахматова является одним из представителей безыдейного реакционного болота,— говорил Жданов.— До убожества ограничен диапазон ее поэзии,— поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной... Не то монахиня, не то блудница... Ее поэзия совершенно далека от народа... Какое она имеет отношение к нам, советским людям?» /2, 264/
Переведем на простой язык — «Ахматову вон!»
Сильва Гитович вспоминала, как Анна Андреевна на другой день после этого собрания пришла в Литфонд: «Встречные почтительно и робко жались к стене, давая ей дорогу; смущенные служащие, затаив дыхание, сидели потупившись; Анна Андреевна, окончив свои дела, приветливо распрощалась и не спеша направилась к выходу.
«Боже, какое самообладание! Какая выдержка!» —* поражались ей вслед.
Она просто еще не знала, что произошло. «Утренних газет я не видела, радио не включала, а звонить мне по телефону, видимо, никто не решился,— рассказывала Ахматова.— Вот я и говорила с ними, будучи в полном неведении о том, что обрушилось на мою седую голову...» /1,504/
I
▼
Вместе с ней постановление касалось и сатирика Михаила Зощенко — ему тоже никто не звонил, а на улицах делали вид, что не замечают...
«Писательская братия быстро отреагировала на это постановление,— писал Лев Горнунг,— и исключила Ахматову и Зощенко из Союза писателей. Писатели даже перестарались — и лишили ее рабочей продовольственной карточки» /1, 213/.
В послевоенном Ленинграде лишиться месячной карточки было равносильно самоубийству или голодной смерти; так что «ослы на Парнасе» продемонстрировали свою революционную жестокость.
Впрочем...
Е. К. Гальперина прцшла после этого постановления к Ахматовой с тяжелой сумкой: продукты, хлеб:
— Анна Андреевна, я принесла вам то, что могла,
ведь вы живете без карточек.
Она неожиданно рассмеялась и приподняла коробку, стоявшую на столе. Под ней лежали продовольственные карточки.
— Что это? — изумилась я.
— Мне это присылают на дом.
— Кто?
— Право, не знаю, но присылают почти каждый
день... /1, 244/
Вскоре карточки Ахматовой восстановили.
Вот только ждановские ругательства оказались цветочками...
В советскую, а тем более сталинскую, эпоху нужно было быть очень осторожными в выборе знакомств — страх заставлял. К счастью, не Ахматову, хотя Надежда Мандельштам говорила, что страх не раз возвращался к ней.
Одним из таких знакомых стал Исайя Берлин, сотрудник британского посольства, оказавшийся после вой» ны в Ленинграде. Прекрасный знаток поэзии и человек высокой культуры, он хотел встретиться с Ахматовой. Созвонились — и он пришел. Беседу прервал крик с улицы:
— Исайя!..
Оказалось, что его нашел бывший тогда с делегацией в Ленинграде сын Уинстона Черчилля Рандольф. Пробормотав прощание, Берлин выскочил на улицу.
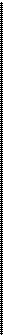
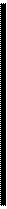 Эта история породила нелепые слухи— мол, Ахматова уезжает из России, сам Черчилль, многолетний ее поклонник, собирается прислать за ней специальный самолет и т. д. Можно было бы списать это на литературный анекдот, если бы не скверное положение. Берлин в своих воспоминаниях рассказывает, что Сталин был лично возмущен «поведением Ахматовой, которая должна была быть благодарной, что осталась жива в тридцатые годы», «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов»,— сказал Сталин и разразился непристойными ругательствами... /1, 451/
Эта история породила нелепые слухи— мол, Ахматова уезжает из России, сам Черчилль, многолетний ее поклонник, собирается прислать за ней специальный самолет и т. д. Можно было бы списать это на литературный анекдот, если бы не скверное положение. Берлин в своих воспоминаниях рассказывает, что Сталин был лично возмущен «поведением Ахматовой, которая должна была быть благодарной, что осталась жива в тридцатые годы», «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов»,— сказал Сталин и разразился непристойными ругательствами... /1, 451/
На следующий день после отъезда Берлина у входа в дом Ахматовой поставили людей в форме, а в потолок вмонтировали микрофон.
«Она поняла, что обречена». Советские люди обязаны бояться...
Жизнь в Фонтанном доме была тихой и удрученной.
Анна Андреевна жила вдвоем с сыном; дела Льва шли все хуже и хуже: его исключили из аспирантуры и он только на одном упорстве защитил диссертацию, получил степень кандидата исторических наук и место в Этнографическом музее. С Луниным произошел тяжелый раз-, рыв (современники и сама Ахматова об этом почти ничего не говорят — не будем и мы); теперь он жил с новой женой; его дочь Ирина родила ему внучку Аню — так появилась на Фонтанке Акума-младшая.
Август 1949 года стал роковым. Ирина Лунина вспо
минала: «Папу арестовали 2(3 августа днем», провели
обыск; Николай Николаевич уже не вернется — умрет че
рез четыре года в лагере. i
«Леву арестовали 6 ноября, когда он зашел домой в t
обеденный перерыв. Обыск закончился скоро. Акума
лежала в беспамятстве. Я помогла Леве собрать вещи, до
стала его полушубок. Он попрощался с мамой, вышел на
кухню попрощаться со мной, его увели. Старший из со
трудников, уходя, сказал мне: J f
— Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, \
поберегите ее. «
Я остолбенела от такой заботы...» /1, 471/ f
Вскоре из квартиры станут выселять все семейство * Пуниных; а комендант, намекая на Ахматову, цинично говорил:
— Вы уезжайте в ту квартиру, которую вам дают, а старушка без вас долго не проживет...
Как Пуниной удалось высудить эту квартиру и никуда не уехать, для нее самой, пожалуй, было загадкой.
И все же жизнь Ахматовой изменилась — она стала жить на два города.
Э. Герштейн вспоминала: «Анна Андреевна стала ездить в Москву, чтобы передавать каждый месяц строго определенную администрацией сумму в Лефортовскую тюрьму. Так она узнавала, что сын жив. Следствие тянулось долго. Льва Гумилева приговорили к десяти годам заключения в лагере особого режима».
В Москве она жила у Ардовых, но и те, несмотря на все старания, не могли облегчить ее душевных страданий; это кончилось тяжелым инфарктом. Теперь больничные призраки становятся ее реальностью...
В 1952 году все же пришлось проститься с Фонтанным домом — Пуниной удалось найти квартиру на улице Красной Конницы. Прощаясь, Ахматова написала:
Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца... Я нищей
В него вошла и нищей ухожу...
«Жить — это только привычка...»
Весна 1953 года — умер Сталин — стала для нее ос
вобождением. Новый лидер партии — Н. С. Хрущев —
взял курс на реабилитацию невинно осужденных и объ
явил об амнистии. Ахматова тогда гордо говорила: «Я из
хрущевской партии!»
| Она принялась хлопотать за сына. И снова судьба
* как будто смеялась над ней — все вокруг возвращались,
* а ее хлопоты оставались бесплодными. Льва Гумилева ос*
вободят одним из самых последних — только в 1956 году...
После смерти Сталина дышать и жить стало легче. I Вышел ее перевод пьесы Гюго — Ахматова получила пер-% вые крупные деньги* Но ее жизнь, по сути бездомная, не изменилась никак.
Как вспоминают современники, у Ахматовой никог- * да не было обывательского чувства: ни жилье, ни мебель, ни удобства ее не прельщали* «Строжайший минимум бытового реквизита»,— так определил ее быт Е..Максимов. Скромность, граничащая с бедностью,— «маленький, еле существующий письменный столик, кровать, книжная полка — впечатление неухоженности и жизненного неустройства, беспредметности и бесприютности» /1, 108/.
Весь ахматовский архив — рукописи, бумаги, рисунки — помещался в старом потертом чемоданчике, с которым она почти не расставалась и который как бы дополнял образ Ахматовой.
Так было в двадцатые годы — ничего не изменилось и в шестидесятые.
Запомнилась современникам и ее квартира в Москве на Ордынке — крохотная комната, похожая на келью, в которую едва от стены до окн& помещалась тахта. В этой % «каюте» писались стихи.
Впрочем, появилась «роскошная дача» — в Комарове, на Балтийском взморье. Ахматова прозвала комаров-скую дачу Будкой. Здесь, в Комарове, житейская неприспособленность Ахматовой стала еще заметнее. Сильва Гитович писала: «Все знали, что Анна Андреевна боится техники, не умеет включить проигрыватель и поставить \ пластинку, не может зажечь газ. «Зато,— говорила она,— < умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть...»
Вокруг Будки она насадила неприхотливых растений: березу, рябину, гречиху и лесные фиалки. В доме и на участке появились всевозможные коряги, самая большая лежала перед окнами веранды — «мой деревянный бог».
Однажды прислала Сильве душераздирающую записку: «Милая Сильва, против окна моей комнаты строят деревянный сарай. Взываю к вам! Помогите!» Гитович % приехала и решила дело просто — дала плотникам на поллитра, и они тут же перенесли сарай к забору.
Обставилась Анна Андреевна и «мебелью» — Пунина t откуда-то привезла груду рухляди: кривоногие старые стулья, низкий стол из чердачной двери, матрац на восьми кирпичах. По поводу этого матраца Ахматова вспоминала Пушкина: «Что ж, у Пушкина кровать стояла на березовых поленьях, а у меня — на кирпичах» /1, 507—508/.
На даче в Комарове было скучновато — и постаревшая и пополневшая Ахматова все чаще ходила в гости, засиживалась допоздна за чаем...
Куда веселее было в Москве — стоит только ей приехать, как стихийно возникала ее знаменитая «ахматов-ка» — множество знакомых, друзей, поклонников и по* клонниц, почитателей и исследователей ее творчества; все время кто-то приходил, кто-то уходил — круговорот людей. О некоторых приходивших могла говорить с подозрительностью или осуждением — и все равно принимала у себя: страх одиночества был сильнее.
Иногда отправлялась кататься — с молодой писательницей Натальей Ильиной, которой удалось купить машину; причем, собираясь на прогулку, говорила гордо остававшимся: «Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься!..» — с интонациями прошлого века. Обычно ездили в Коломенское, к церкви Вознесения. С годами Ахматовой было все тяжелее преодолевать большие расстояния, и Ильина подвозила ее к самым воротам. Милиционер, видевший, как из машины выбирается теперь уже старая женщина, махнул рукой и не выписал штраф. Ездили и в Архангельское — «к Пушкину»...
В шестидесятые годы ее дача в Комарове помолодела —Ахматова охотно принимала молодежь. Алексей Баталов, известный актер, знавший Анну Андреевну с шести лет, рассказывал, как устраивались пикники в Будке — «во дворе валялись велосипеды, стояли мотоциклы, бродили по-домашнему одетые молодые люди; кто-то разводил костер, другие таскали воду, третьи резались в кости». Любого «убеленного сединами солидного посетителя» такая обстановка приводила в ужас — к большому удовольствию Ахматовой. «Все кончалось наилучшим образом — натянутость скоро исчезала, беседа шла просто, а Анна Андреевна всячески поднимала акции каждого из нас, так что к вечеру получалось, что за столом собрались люди, каждый из которых в своей области чуть ли не профессор» /1, 567/.
Из молодых поэтов она больше всего любила Иосифа Бродского — и даже читала некоторые из его стихотворений или приводила отрывки (вообще, чужие стихи она читала редко). Тогдашние молодежные кумиры-
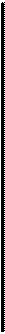 шестидесятники: Вознесенский, Рождественский, Евту шенко, Ахмадулина — были ей все ясе чужды: она не лю била их шумность, сенсационность и жадность до публи ки. Нравился Окуджава — и ртихи, и его пение.
шестидесятники: Вознесенский, Рождественский, Евту шенко, Ахмадулина — были ей все ясе чужды: она не лю била их шумность, сенсационность и жадность до публи ки. Нравился Окуджава — и ртихи, и его пение.
«Исключительно высоко и проницательно Ахматова сразу же оценила Солженицына, едва вышел номер «Но вого мира» с «Одним днем Ивана Денисовича». Популяр ность Солженицына тогда росла, и он захотел прийти к Ахматовой. Пришел — и стал читать стихи. Как раз его стихи меньше всего понравились Ахматовой: «Из стихов видно, что он очень любит природу» — и только... Но все же молодой писатель произвел на нее великолепное впечатление. Прощаясь, она спросила его:
— Понимаете ли вы, что через несколько лет вы ста нете самым знаменитым человеком в мире и что это, мо жет быть, будет самым тяжелым из всего, что вам пришлось пережить?
Следующий рассказ Солженицына, «Матренин двор», лишь подтвердил правильность ахматовского впе чатления /1, 538/.
И все же хрущевская оттепель вскоре обернулась разочарованием: был арестован Бродский и подвергнут суду, развернулась история вокруг «Доктора Живаго» Пастернака, прогремела скандальная история с Даниэлем и Синявским. Расправившись, Союз дисателей торжествовал. Во всех этих хлопотах забыли, ^то Ахматовой — уже семьдесят пять. Было много поздравлений от ряда лиц, из-за границы, а родной Ленинградский союз даже телеграмму не отбил. Впрочем, было одно поздравление — «союзный» шофер Вася, приехавший Р Комарово передать телеграммы, поздравил...
И все же середина 1960-х годов стала для нее триум фом — пусть и не советским. В декабре 1964 года Ахматова отправилась в Италию — после столь долгих лет — на вру чение литературной премии Этна-Таормина. И. Пунина вспоминала, что вся поездка была похожа на сон и сказку.
Она поднималась по каменной лестнице старинного замка решительно. Перед ней в первом ряду сидели дамы и господа в мехах и драгоценностях. Сначала волнова лась, потом, пока ждали министра,, успокоилась. Стали вручать премии. Оказалось, что нужно сказать ответную речь — что делать? — решила читать стихи, и то по книж-
ке (словно не надеясь на свою память): «Ты ль Данту дик товала...»
После церемонии отправились в отель. Все кругом было готово к Рождеству: огни, гирлянды, евангельские герои на картинках. И вдруг раздался со всех сторон звон — это в церквах закончились вечерние службы; Пу-ниной тогда казалось, что вся Катанья приветствует Ах матову колокольным звоном.
В номере торжественность уступила место непринуж денному застолью...
Здесь, в Италии, произошла еще одна встреча. А. Т. Твардовский пришел к ней в номер с поздравлением (они до сих пор не были лично знакомы). Сам рассказывал по приезде: «Она приняла меня так, словно мы были давно знакомы. Но я все же с некоторой опаской — женщина немолодая, сердечница — спрашиваю ее: а не отметить ли нам некоторым образом ее награждение? «Ну конечно же, конечно!» — обрадовалась она. «Тогда, может быть, я закажу по этому поводу бутылку какого-нибудь итальянского?» И вдруг слышу от нее: «Ах, Александр Трифонович, а может быть, водочки?» И с такой располагающей простотой это было сказано, и с таким удовольствием! Я тут же ринулся к себе в номер — к чемодану, где оставалась заветная бутылка...» /1, 679—680/
Италия в 1965 году сменилась Англией — и теперь летом Лондон встречал «Сафо из России». Оксфордский университет постановил присудить ей степень доктора. Ее номер был засыпан цветами и похож на оранжерею. 5 июня — присвоение почетного звания и торжественный завтрак в Оксфорде.
А потом на два дня Ахматова уехала в Стредфорд — на родину Шекспира, любовь к которому она хранила всю жизнь. Дом Шекспира она осмотрела лишь из машины — чувствовала себя неважно, но на стредфордском кладбище вышла — церковь, гробница с надписью, бюст Шекспира...
В Мемориальном театре шел «Венецианский ку пец» — Ахматова все боялась, что ее знания английского языка недостаточно, чтобы понять пьесу, но не пошла на спектакль по другой причине — ей нездоровилось...
Ее последней книгой стал сборник стихов «Бег времени» — не только последние стихи, но и те, которые ког-
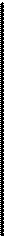 да-то входили в отвергнутые издательствами рукописи, те — из эпохи тридцатых—сороковых. Только теперь вре мя убегало...
да-то входили в отвергнутые издательствами рукописи, те — из эпохи тридцатых—сороковых. Только теперь вре мя убегало...



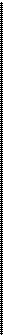
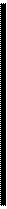 Эта история породила нелепые слухи— мол, Ахматова уезжает из России, сам Черчилль, многолетний ее поклонник, собирается прислать за ней специальный самолет и т. д. Можно было бы списать это на литературный анекдот, если бы не скверное положение. Берлин в своих воспоминаниях рассказывает, что Сталин был лично возмущен «поведением Ахматовой, которая должна была быть благодарной, что осталась жива в тридцатые годы», «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов»,— сказал Сталин и разразился непристойными ругательствами... /1, 451/
Эта история породила нелепые слухи— мол, Ахматова уезжает из России, сам Черчилль, многолетний ее поклонник, собирается прислать за ней специальный самолет и т. д. Можно было бы списать это на литературный анекдот, если бы не скверное положение. Берлин в своих воспоминаниях рассказывает, что Сталин был лично возмущен «поведением Ахматовой, которая должна была быть благодарной, что осталась жива в тридцатые годы», «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов»,— сказал Сталин и разразился непристойными ругательствами... /1, 451/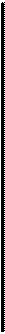 шестидесятники: Вознесенский, Рождественский, Евту шенко, Ахмадулина — были ей все ясе чужды: она не лю била их шумность, сенсационность и жадность до публи ки. Нравился Окуджава — и ртихи, и его пение.
шестидесятники: Вознесенский, Рождественский, Евту шенко, Ахмадулина — были ей все ясе чужды: она не лю била их шумность, сенсационность и жадность до публи ки. Нравился Окуджава — и ртихи, и его пение.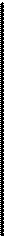 да-то входили в отвергнутые издательствами рукописи, те — из эпохи тридцатых—сороковых. Только теперь вре мя убегало...
да-то входили в отвергнутые издательствами рукописи, те — из эпохи тридцатых—сороковых. Только теперь вре мя убегало...


