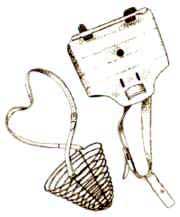Помощники удерживают голову молодого быка за рога и веревку, стягивающую морду, чтобы ветеринар мог наложить пробойные щипцы на хрящевую перегородку, разделяющую ноздри. В отверстие вставляли кольцо, за которое потом можно было без опасений вести быка на расстоянии вытянутой руки. За кольцо также зацепляли палку с крюком на конце или привязывали к нему веревку – если бык был мирного нрава.

Пробойные щипцы и кольцо, вдеваемое быку в нос
Этот пробойник в форме щипцов имеет длину около 25 см. Один конец снабжен чашечкой с острыми краями, а другой – выступом из мягкого металла, свинца или меди, который упирается в чашечку. Пробив небольшое отверстие в носовой перегородке, ветеринар вставляет в него кольцо, обычно медное. Оно состоит из двух открывающихся половин, чтобы его можно было вставить в нос, после чего половины скрепляются небольшим винтом.
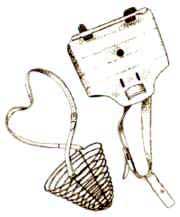
Бычьи шоры и телячий намордник
На агрессивного быка можно было надеть металлические шоры или маску (вверху), ограничивавшие поле его зрения, что устраняло повод броситься в нападение. Фермеры расходились в оценке эффективности такой маски. Закреплялась она с помощью кожаных ремней, а иногда и сама была кожаной. Проволочный телячий намордник (внизу) употребляется обычно для того, чтобы мешать телятам, которых отлучили от вымени, сосать все, что ни попало – брусья в стойле, друг друга и т. д. Такой намордник им надевают на неделю, ненадолго снимая, чтобы теленок мог есть и пить.
Клифф находит новое дело
Пожалуй, самым драматичным событием в истории ветеринарной практики явилось исчезновение рабочей лошади. Даже не верится, что эта опора и гордость нашей профессии сошла на нет за какие‑то считанные годы. И произошло это у меня на глазах.
Когда я обосновался в Дарроуби, трактор уже начал свое победное шествие, но в сельской общине традиции очень живучи, и лошадей и там, и в окрестностях было еще много. Чему мне следовало только радоваться, так как ветеринарное образование, которое я получил, строилось вокруг лошади, а все остальное было весьма второстепенным дополнением. Во многих отношениях обучение наше было вполне научным, и все же по временам мне мерещилось, что люди, его планировавшие, мысленно видели перед собой дипломированного коновала в цилиндре и сюртуке, существующего в мире подвод и конных фургонов.
Анатомию лошади мы изучали в мельчайших подробностях, остальных же животных – куда более поверхностно. И то же наблюдалось во всех других дисциплинах, начиная от ухода за животными, когда мы постигали все тонкости ковки, превращаясь в заправских кузнецов, и кончая фармакологией и хирургией. О сапе и мыте нам полагалось знать куда больше, чем о чуме у собак. Но и корпя над всем этим, мы, зеленые юнцы, понимали, что это глупо, что ломовая лошадь уже стала музейным экспонатом и работать нам предстоит главным образом с рогатым скотом и мелкими животными.
Тем не менее мы потратили столько времени и сил на овладение лошадиными премудростями, что все‑таки найти пациентов, для лечения которых эти знания могли пригодиться, было, как я уже сказал, очень приятно. Пожалуй, в первые два года я лечил рабочих лошадей чуть ли не каждый день. И пусть я не был и никогда не буду специалистом по лошадям, но и меня покоряла своеобразная романтика заболеваний и травм, названия которых порой восходили к средневековью. Заковка, гниение стрелки, нагноение холки, свищи, плечевой вывих – ветеринары лечили все это из столетия в столетие, пользуясь почти теми же лекарствами и приемами, что и я. Вооруженный прижигателями и коробкой с пластырями, я решительно плюхнулся в извечный стрежень ветеринарной жизни.
И вот теперь, на исходе третьего года, струя эта, если и не пересохла, то настолько ослабела, что становилось ясно: не за горами день, когда она и вовсе иссякнет. В какой‑то мере это означало определенное облегчение жребия ветеринарного врача, поскольку работа с лошадьми была физически наиболее трудной и самой требовательной из наших обязанностей.
А потому, глядя на этого трехлетнего мерина, я вдруг подумал, что подобные вызовы теперь далеко не так часты, как совсем еще недавно. На боку у него была длинная, рваная, хотя и неглубокая рана там, где он напоролся на колючую проволоку, и при каждом движении края ее расходились. Деваться было некуда: ее следовало побыстрее зашить.
Лошадь была привязана в стойле за голову, и правый ее бок прижимался к высокой деревянной перегородке. Работник, дюжий детина шести футов роста, крепко ухватил уздечку и привалился к яслям, а я начал вдувать в рану йодоформ. Меринок отнесся к этому спокойно, что было утешительно, так как он мог похвастать весьма могучим сложением и от него прямо‑таки исходило ощущение жизнерадостной силы. Я вдел шелковинку в иглу, чуть приподнял край раны и прошил его. «Ну, все в порядке!» – подумал я, прокалывая край напротив, но тут мой пациент судорожно дернулся, и мне почудилось, что прямо по мне просвистел ураганный ветер, а он вновь стоял, прижимаясь к перегородке, словно ничего не произошло.
Когда лошадь меня лягала, это всегда оказывалось полной неожиданностью. Просто поразительно, с какой молниеносной быстротой способны взметнуться эти могучие ноги. Тем не менее в попытке мерина ударить меня сомневаться не приходилось: игла бесследно исчезла вместе с шелковинкой, лицо дюжего работника побелело, и он смотрел на меня выпученными глазами, а мой «габардиновый макинтош» пришел в удивительное состояние – словно кто‑то старательно располосовал его спереди лезвием бритвы на узкие полоски, которые теперь лохмотьями свисали до пола. Огромное подкованное копыто прошло в одном‑двух дюймах от моих ног, но с макинтошем я мог распрощаться навсегда.
Я стоял, ошалело оглядываясь, и тут от дверей донесся бодрый голос:
– А, мистер Хэрриот! Да что же это он натворил? – Клифф Тайрман, старый конюх, поглядел на меня с досадливой усмешкой.
– Чуть не отправил меня в больницу, Клифф, – ответил я с дрожью. – Промахнулся самую малость. Меня как ветром обдало.
– А что вы делали‑то?
– Попробовал было зашить рану. Но больше и пытаться не стану, а съезжу сейчас за намордником и хлороформом.
– Да на что вам хлороформ? – возмутился Клифф. – Я сам его подержу, и можете ни о чем не беспокоиться.
– Извините, Клифф! – Я покосился на его щуплую фигуру и начал убирать шовный материал, ножницы и йодоформ. – У вас легкая рука, я знаю, но он уже разок попробовал до меня добраться, и больше я ему такого удовольствия предоставлять не намерен. Мне что‑то не хочется остаться хромым до конца моих дней.
Невысокий жилистый конюх словно весь подобрался. Он выставил вперед голову и смерил меня воинственным взглядом.
– Да что вы городите! – Он яростно обернулся к дюжему работнику, который все еще крепко держал уздечку, хотя его мертвенная бледность успела приобрести слегка зеленоватый оттенок. – Иди‑ка ты отсюда, Боб! Так перетрусил, что и лошадь напугал. Иди‑иди, его я подержу.
Боб с облегчением выпустил уздечку и с виноватой ухмылкой бочком пробрался мимо мерина. Он был выше Клиффа по меньшей мере на голову.
Происшедшее, казалось, возмутило Клиффа до глубины души. Он взял уздечку и посмотрел на мерина укоризненным взглядом, как учитель на расшалившегося ученика. А тот в явном возбуждении прижал уши и запрыгал, грозно стуча копытами по каменным плитам пола. Но стоило щуплому конюху ударить его кулачком по ребрам снизу, и он сразу встал как вкопанный.
– У, олух царя небесного! Стой смирно, кому говорю! Что это ты выделываешь, а? – рявкнул Клифф и опять ударил кулачком по крутым ребрам. Особой боли такой слабенький удар причинить не мог, но мерин тотчас стал само послушание. – Лягаться вздумал, а? Я те полягаюсь! – Клифф дернул уздечку, устремив на лошадь гипнотический взгляд. Потом кивнул мне: – Беритесь за дело, мистер Хэрриот, он вас не пришибет.

Я нерешительно взглянул на лошадь – такую большую, такую грозную!
Я нерешительно взглянул на лошадь – такую большую, такую грозную! Ветеринарам постоянно приходится с открытыми глазами идти навстречу заведомой опасности, и, полагаю, на каждого это действует по‑разному. Меня порой излишне живое воображение ввергало в дрожь, рисуя самые жуткие картины, и вот теперь я даже с некоторым сладострастием прикидывал, какой мощью обладают эти огромные в глянцевитой шерсти ноги, как тверды эти широкие копыта, обведенные узкой полоской металла. Размышления мои прервал голос Клиффа:
– Да не прохлаждайтесь, мистер Хэрриот, говорю же, он вас не пришибет!
Я снова открыл ящик с инструментами и дрожащими пальцами вдел новую шелковинку в новую иглу. Собственно, выбора у меня не было – Клифф не спрашивал, он приказывал. Придется рискнуть еще раз.
Когда я, еле переставляя ноги, вернулся на прежнее место, думаю, вид у меня был не слишком внушительным: спотыкаюсь о дикарскую юбочку, в которую превратились полы моего макинтоша, вновь протянутые к ране пальцы дрожат, в ушах гремит кровь. Но я напрасно мучился. Клифф оказался совершенно прав, и мерин меня не пришиб. Собственно говоря, он даже ни разу не шелохнулся и, казалось, сосредоточенно слушал, что ему шепчет Клифф, придвинувший лицо к самой его морде. Я вдувал йодоформ, шил и защемлял, словно демонстрируя методику на анатомической модели. С хлороформом, пожалуй, было бы даже не так удобно.
Когда я с величайшим облегчением покинул стойло и начал опять убирать инструменты, монолог возле лошадиной морды заметно изменился по тону – угрожающее ворчание все больше переходило в нежную насмешливость:
– Ну видишь, окаянная твоя душа, что зря ты свои коленца выкидывал! Ты же у нас умница, верно? Ты у нас молодец! – Ладонь Клиффа ласково скользнула по шее, и могучая лошадь потерлась о него мордой, как доверчивый и послушный щенок.
Медленно выходя из стойла, Клифф успел похлопать мерина по спине, боку, животу, крупу и даже шутливо подергал репицу, а недавнее злобное чудовище блаженно подчинялось этим ласкам.
Я вытащил из кармана пачку сигарет.
– Клифф, вы чудо. Не хотите закурить?
– Это будет, как свинью клубникой угощать, – ответил конюх и высунул язык, на котором покоился кусок табачной жвачки. – Без этого я никуда. Как суну с утра, так хожу до ночи. А вы и не догадались?
Вероятно, вид у меня был до смешного удивленный. Во всяком случае, маленькое обветренное лицо расползлось в довольной улыбке. И глядя на эту улыбку, такую мальчишескую, такую победную, я невольно задумался на тем, какой феномен представляет собой Клифф Тайрман.
В местах, где закаленность и долговечность были правилом, он тем не менее выглядел чем‑то исключительным. В первый раз я увидел его почти за три года до этого дня – он бегал между коровами, хватал их за морды и удерживал, словно без малейших усилий. Я решил, что передо мной человек средних лет, но на редкость хорошо сохранившийся. На самом же деле ему было уже под семьдесят. Несмотря на щуплость, он был внушителен – длинные болтающиеся руки, твердая косолапая походка, набыченная голова придавали ему вызывающий вид, точно он шел по жизни напролом.
– Вот не думал, что увижу вас нынче, – сказал я. – Говорили, у вас пневмония.
Он пожал плечами.
– Есть малость. Первый раз валяюсь с тех пор, как сопляком был.
– Так зачем же вы встали? – Я поглядел на тяжело вздымающуюся грудь, на полуоткрытый рот. – Когда вы его держали, я слышал, какие у вас хрипы.
– Да нет, не для меня это. Денек‑другой, я и вовсе оклемаюсь. – Он схватил лопату и принялся энергично сгребать кучу конских яблок, сипло и тяжело дыша.
Харленд‑Грейндж, большая ферма у подножия холмов, была окружена пахотными землями, и в свое время в длинном ряду стойл этой конюшни не нашлось бы ни одного свободного. Двадцать с лишним лошадей – и по меньшей мере для двенадцати из них каждый день находилась работа. А теперь их осталось две: молодой мерин, которому я зашил рану, и дряхлый конь серой масти по кличке Барсук.
Клифф был главным конюхом, а когда произошел переворот и лошадей свергли с былого престола, без жалоб и стенаний пересел на трактор, не брезгуя и никакими другими работами. Это было типично и для множества других таких же, как он, сельских работников повсюду в стране. Лишившись дела всей своей жизни, оказавшись перед необходимостью начать все сначала, они не подняли вопля, а просто взялись за новое дело. Собственно говоря, люди помоложе перешли на машины с жадностью и показали себя прирожденными механиками.
Но для старых знатоков вроде Клиффа что‑то невозвратимо рухнуло. Он, правда, любил повторять: «На тракторе‑то сидеть оно куда сподручнее – прежде‑то за день так по полю находишься, что ног под собой не чуешь!». Но любовь к лошадям он сохранял в полной мере – то чувство товарищества между работником и рабочей лошадью, которое крепло в нем еще с дней детства и осталось в крови навсегда.
В следующий раз я приехал в Харленд‑Грейндж к откармливаемому бычку, который подавился куском турнепса, но пока я возился с ним, хозяин, мистер Гиллинг, попросил меня взглянуть на старого Барсука.
– Он что‑то все кашляет. Может, конечно, возраст, но вы все‑таки его посмотрите.
Старый конь теперь стоял в конюшне в полном одиночестве.
– Трехлетку я продал, – объяснил фермер. – Но старичка придержу. Не трактор же гонять, если надо какую‑нибудь мелочь перевезти.
Я покосился на вытесанное как из гранита лицо. По виду его никак нельзя было заподозрить в мягкосердечности, но я догадывался, почему он не расстался со старым конем. Ради Клиффа.
– Ну, Клифф, во всяком случае, будет рад, – сказал я.
Мистер Гиллинг кивнул.
– Да уж, другого такого лошадника поискать. Водой не разольешь. – Он усмехнулся. – Помнится, хоть и давненько это было, как Клифф поругается со своей хозяйкой, так уйдет в конюшню на всю ночь посидеть с лошадками. Сидит там час за часом и покуривает. Он тогда еще табак не жевал.
– А Барсук у вас тогда уже был?
– Угу. Мы ж его вырастили. Клифф ему вроде бы как восприемник. Дурачок, помню, задницей вперед шел, ну и пришлось нам повозиться, чтобы его вытащить! – Он улыбнулся. – Наверное, потому Клифф всегда его и отличал. Работать на Барсуке никому другому не давал, только сам – год за годом, год за годом. И до того им гордился, непременно ленты ему в гриву вплетет и все бляхи на упряжи начистит, если, скажем, ехал на нем в город. – Он задумчиво покачал головой.
Дряхлый коняга оглянулся с легким любопытством, услышав мои приближающиеся шаги. Ему было под тридцать, и весь его облик говорил о тихой старости – торчащие тазовые кости, поседелая морда, провалившиеся глаза, полные благожелательности. Я собирался измерить ему температуру, но тут он издал резкий лающий кашель, который подсказал мне, что с ним такое. Минуты две я наблюдал, как он дышит, и второй симптом также оказался налицо. Дальнейшего осмотра не требовалось.
– У него запал, мистер Гиллинг, – сказал я. – А точнее, эмфизема легких. Видите, как у него дважды вздергивается живот при выдохе? Дело в том, что его легкие утратили эластичность, и чтобы вытолкнуть из них воздух, требуется дополнительный нажим.
– А причина в чем?
– В первую очередь, конечно, возраст. Но он немного простужен, вот все и стало гораздо заметнее.
– Но пройти‑то может? – спросил фермер.
– Ему станет полегче, когда он разделается с простудой, но совсем здоровым, боюсь, ему уже никогда не быть. Я дам вам лекарство, которое смягчит его кашель. Подмешивайте ему в воду.
Я сходил к машине и вернулся с отхаркивающей мышьяковой микстурой, которой мы тогда пользовались.
Прошло примерно полтора месяца, и как‑то вечером, часов около семи, мне опять позвонил мистер Гиллинг.
– Вы бы не приехали поглядеть Барсука? – спросил он.
– А что с ним? Опять плохо дышит?
– Да нет. Кашлять он кашляет, но вроде бы особенно из‑за этого не мучается. Нет, у него, по‑моему, колики. Сам я уехать должен, так вас Клифф проводит.
Старый работник ждал меня во дворе с керосиновым фонарем. Подойдя к нему, я с ужасом воскликнул:
– Боже мой, Клифф! Что вы с собой сделали?
Лоб и щеки у него были сплошь в ссадинах и царапинах, а нос, весь ободранный, торчал между двумя синяками. Тем не менее он ухмыльнулся, а в глазах у него запрыгали смешливые искорки.
– Да с велосипеда намедни грохнулся. Наехал на камень, ну и перекувыркнулся через руль задницей кверху. – При этом воспоминании его разобрал хохот.
– Но, черт подери, почему вы к доктору не сходили? Нельзя же вам разгуливать в таком виде!
– К доктору? А чего у них время зря отнимать? Эка невидаль! – Он потрогал рассеченный подбородок. – На денек пришлось‑таки перевязаться, а теперь все поджило.
Я только головой покачал и пошел за ним в конюшню. Он повесил фонарь на столб и направился к коню.
– Ума не приложу, что с ним такое, – сказал он. – Вроде бы ничего такого и нет, а все‑таки не все у него в порядке.
Особых признаков сильной боли заметно, действительно, не было, но Барсук все время переступал с ноги на ногу, словно ощущал какую‑то неловкость в животе. Температура оказалась нормальной, и никаких симптомов возможных болезней мне обнаружить не удалось.
Я еще раз оглядел его с некоторым сомнением.
– Может быть, и правда, легкая колика. Во всяком случае, ничего такого не заметно. Я впрысну ему кое‑что, чтобы он успокоился.
– Ну и хорошо, хозяин, – сказал Клифф, глядя, как я достаю шприц, и обвел взглядом конюшню до полного теней дальнего конца. – А непривычно как‑то, что всего тут одна лошадь стоит. Я ж ведь помню, когда их тут было полным‑полно, уздечки со столбов свисают, а прочая сбруя на стенке позади них так и посверкивает… – Он переложил жвачку от одной щеки к другой и улыбнулся. – Черт дери! Я ж тут каждое утро с шести часов корм им задавал, к работе готовил, и уж можете мне поверить, это ж чистая картинка была, как мы все выезжали отсюда пахать на самой зорьке! Шесть пар лошадок упряжью побрякивают, а пахари бочком у них на спинах сидят. Ну прямо тебе процессия!
Я улыбнулся.
– Раненько вы начинали, Клифф.
– Угу, черт дери. А кончали поздно. Вернемся, дадим лошадкам пожевать чего‑нибудь, сбрую снимем и идем повечерять. А потом опять сюда, да гребнем, да щеткой весь пот, всю грязь с них и соскоблим. А потом зададим корму по‑настоящему – и отрубей, и овса, и сена, чтобы хорошенько подзаправились перед завтрашним днем.
– Так у вас и вечера свободного вовсе не оставалось?
– Что так, то так. Отработались – и на боковую, оно верно. Да только мы об этом и не думали вовсе.
Я подошел к Барсуку, чтобы сделать инъекцию, и вдруг опустил шприц. По телу старого коня пробежала легкая судорога, еле заметное напряжение мышц, потом он на секунду вздернул хвост и снова опустил.
– Что‑то тут другое, – сказал я. – Клифф, выведите‑ка его из стойла. Я погляжу, как он пройдется по двору.
И когда его копыта застучали по булыжнику, мышцы вновь напряглись, а хвост вздернулся. У меня в мозгу словно что‑то вспыхнуло. Я быстро подошел к нему и похлопал по нижней челюсти. По глазному яблоку скользнуло третье веко и медленно поползло обратно, и я понял, что не ошибся.
У меня не сразу нашлись слова. Простой осмотр мимоходом обернулся смертным приговором.
– Клифф, – сказал я, – боюсь, у него тетанус.
– Это что, столбняк, что ли?
– Да‑да. Очень грустно, но это точно. Последнее время он ноги не ранил? У копыт?
– Да недели две назад он что‑то захромал, и кузнец выпустил у него из копыта гной. Большую дырку проковырял. Вот так.
– Жаль, что ему тогда же не сделали противостолбнячной прививки, – сказал я и попытался разжать челюсти старого коня, но они были крепко стиснуты. – Наверное, он сегодня уже не мог есть?
– Да нет, утром поел немножко. А вот вечером – ничего. Как же с ним дальше‑то, мистер Хэрриот?
Как дальше – вот именно. Если бы Клифф и сегодня задал мне этот вопрос, у меня точно так же не нашлось бы внятного ответа. Факт остается фактом – от семидесяти до восьмидесяти процентов заболеваний столбняком кончаются гибелью животного, и никакие способы лечения нисколько этих цифр не меняют. Но окончательно отказываться от надежды мне все‑таки не хотелось.
– Вы сами знаете, Клифф, дело очень серьезное, но я постараюсь помочь. У меня есть с собой антитоксин, и я сделаю ему инъекцию, а если судороги усилятся, дам снотворного. Пока он может пить, отчаиваться рано. Давайте ему жидкую пищу. Лучше всего овсяный отвар.
Несколько дней Барсук оставался в том же состоянии, и я немного воспрянул духом. Мне приходилось видеть, как лошади оправлялись от столбняка, и я помнил, какое это всякий раз бывало чудесное ощущение: приедешь утром, а у лошади челюсти разомкнуло и изголодавшееся животное начало есть.
Но с Барсуком этого не произошло. Его поместили в просторное стойло, где он мог без помех двигаться, и каждый день, заглядывая к нему через нижнюю половинку двери, я ловил себя на отчаянном желании найти какие‑нибудь признаки улучшения. Но, увы, через несколько дней его состояние стало ухудшаться. Неосторожное движение, появление рядом человека вызывали сильнейшую судорогу, и он, пошатываясь, кружил по стойлу на негнущихся ногах, точно деревянная игрушка, а в глазах стоял ужас, и сквозь крепко стиснутые зубы сочилась слюна. Как‑то утром, испугавшись, что он свалится, я посоветовал надеть на него опоры и поехал за ними в Скелдейл‑Хаус. Но едва я открыл дверь, как заверещал телефон. Звонил мистер Гиллинг.
– Вроде бы мы опоздали, мистер Хэрриот. Он лежит врастяжку и, сдается мне, тут уж ничего не поправишь. Надо кончать, чтоб он зря не мучился, верно?
– Боюсь, вы правы.
– Только вот что. Мэллок его, конечно, заберет, но Клифф не хочет, чтобы его Мэллок пристрелил. Хочет, чтобы вы. Так, может, приедете?
Я достал боенский пистолет и вернулся на ферму, раздумывая над тем, почему моя пуля представлялась старику менее отвратительной, чем пуля живодера. Мистер Гиллинг ждал меня в стойле рядом с Клиффом, который горбил плечи, засунув руки глубоко в карманы. Он обернулся ко мне с блуждающей улыбкой.
– Я как раз хозяину говорил, до чего же Барсук хорош был, когда я его для выставки готовил. Видели бы вы его тогда! Шерсть вся блестит, щетки на ногах белее снега вычищены, а в хвосте – голубая лента вот такой ширины!
– Могу себе представить, Клифф, – сказал я. – Холить его лучше, чем вы, никто не мог бы.
Он вытащил руки из карманов, присел на корточки, нагнулся над лежащим конем и несколько минут поглаживал седую шею и уши, но старый провалившийся глаз смотрел на него без всякого выражения. Клифф тихо заговорил, обращаясь к коню, и голос его был спокойный, почти бодрый, точно он болтал с приятелем:
– Много тысяч миль я прошагал позади тебя, старина, и много о чем мы с тобой толковали. Да только что я такого мог бы тебе сказать, чего ты сам не знал бы, а? Ты же все понимал сразу, с одного словечка. Я просто рукой шевельну, а ты все и сделаешь, что от тебя требовалось.
Клифф выпрямился.
– Так я работать пошел, хозяин, – сказал он решительно и вышел из стойла. Я подождал, чтобы он не услышал выстрела, который означал конец Барсука, конец лошадей в Харленд‑Грейндже, конец основы основ жизни Клиффа Тайрмана.
Покидая ферму, я снова увидел старика. Он устраивался поудобнее на железном сиденье рычащего трактора, и я закричал, стараясь перекрыть шум мотора:
– Мистер Гиллинг сказал, что решил завести овец и поручить их вам. Думаю, вам понравится за ними приглядывать!
Лицо Клиффа осветила негасимая улыбка, и он крикнул в ответ:
– Угу! Новое дело, да чтобы мне не понравилось? Нам, молодым, это всегда по вкусу!

Сенокос
Перед началом сенокоса в июне косарь проверял свою косу. Длина легкой ивовой рукоятки, расположение двух ручек на ней и угол, под каким на нее было насажено острое изогнутое лезвие, – все влияло на быстроту и аккуратность работы. Он мог выкосить в день полгектара, а то и больше, оставляя после каждого широкого взмаха ровный ряд скошенной травы, который постепенно достигал конца луга. Закончив ряд, он возвращался через луг и вел следующий ряд параллельно предыдущему таким образом, чтобы расстояния между рядами были одинаковыми и скошенная трава лежала в одном направлении.

Брюкворезка
Овце и даже корове нелегко откусить первый кусок от твердого круглого корнеплода. В этой брюкворезке нажатие на рычаг прижимает брюкву к расположенным снизу ножам, которые рассекают ее на ломти.

Латунные бляхи для сбруи
Наиболее старинные из таких блях относятся к концу XVIII века. В середине прошлого века они были в большой моде и выделывались в подражание серебряным украшениям на сбруе лошадей, запряженных в кареты аристократов; на них поэтому нередко фигурировали геральдические знаки, а также традиционные эмблемы, приносящие удачу. Наиболее часто встречаются солнце, полумесяцы, кресты, снопы, колокольцы и подковы.

Зубные долота
Если лошади трудно пережевывать корм, она быстро теряет форму. Прежде считалось, что жеванию, в частности, препятствуют «волчьи зубы» – небольшие лишние зубы перед первыми премолярами. Их выбивали с помощью долота, длиной около полуметра. В рот лошади вставлялся зевник, долото прикладывали к выросту и по нему ударяли молотком. Концы некоторых долот делались в виде лопаточек, у других – зазубривались, чтобы долото при ударе не соскочило вбок.

Уход за лошадью
Лошадей на ферме обычно чистили ежедневно и кормили четыре раза в день – утром корм им задавали в половине шестого, а работали они пять‑шесть часов. Если лошади предстояло отправиться за пределы фермы, например в город, ее чистили с особым тщанием, хвост заплетали или подвязывали, гриву заплетали, причем каждую косичку в ней завязывали у конца волоском. Когда же лошадь готовили к выставке, надевали плетеную из веревки уздечку.

Стандартный фордзон
На английские фермы тракторы проникали медленно, потому что дешевой рабочей силы было более чем достаточно, а экономические депрессии 20‑х и 30‑х годов превратили трактор в излишнюю роскошь. К 1939 году их было в стране около 55 тысяч, но к концу второй мировой войны нехватка рабочих рук и отсутствие импорта продуктов питания привели к увеличению этого числа до 200 тысяч с лишним. Самым обычным был стандартный фордзон, или, как его еще называли, «фордзон модель Эн». Плод массового производства, введенного Генри Фордом, он выпускался в Дейгенхеме в Эссексе с 1933 года. Все большее их число снабжалось колесами с резиновыми шинами, что увеличивало скорость и позволяло ездить по шоссе.
Я хватаю жизнь, как крапиву
Большая гостиная Скелдейл‑Хауса кишела людьми. Эта комната с изящными нишами, высоким лепным потолком и выходящими в сад стеклянными дверями была для меня средоточием нашей жизни в Дарроуби. Здесь Зигфрид, Тристан и я собирались после дневных трудов, поджаривали подошвы у камина, увенчанного стеклянным шкафчиком, и обсуждали события дня. Она была нашим уютным холостяцким приютом, где мы раскидывались в креслах в сладкой истоме, читали, слушали радио, а Тристан молниеносно решал очередной кроссворд в «Дейли телеграф».
Здесь Зигфрид принимал своих знакомых, поток которых не иссякал, – молодых и старых, принадлежащих как к сильному полу, так и к слабому. Но нынче вечером молодые люди с рюмками в руках находились тут по приглашению Тристана, которое, конечно, приняли с энтузиазмом – хотя младший брат во многих отношениях был прямой противоположностью старшему, обаятельностью он ему не уступал и пользовался большой популярностью.
Отсюда нам предстояло отправиться на «Нарциссовый бал» в «Гуртовщиках», и все мы были при параде. Ведь ожидали нас не обычные танцы, на которых деревенские парни отплясывали в рабочих сапогах под скрипочку и пианино, а настоящий бал с прославленным местным оркестром (Ленни Баттерфилд и его «Бравые ребята»). Давался он ежегодно в честь прихода весны.
Я наблюдал, как Тристан наполняет рюмки. Бутылки с виски, джином и хересом, которые Зигфрид хранил в стеклянном шкафчике, заметно опустели, но сам Тристан пренебрегал крепкими напитками и лишь изредка пригубливал из бокала со светлым пивом. Если уж пить, считал он, так портер и эль гагатовыми кружками, а прочее лишь суета сует и всяческая гиль. Изящные рюмки вызывали у него брезгливость, и даже теперь, когда мы встречаемся с ним на официальных обедах, Тристан каким‑то чудом умудряется обеспечить себя пинтовой кружкой.
– Приятная компания, Джим, – заметил он, возникая рядом со мной. – Мальчиков, правда, чуть побольше, чем девочек, но беда не велика.
Я смерил его холодным взглядом, ибо прекрасно уловил подоплеку: преобладание мужского элемента избавляло Тристана от необходимости танцевать до упаду. Предпочитая не транжирить энергию попусту, он танцами не увлекался. Конечно, почему бы и не покружиться с девушкой по залу раз‑другой, но куда приятнее остальное время проводить в буфете.
Впрочем, того же мнения придерживались и многие другие обитатели Дарроуби: когда мы вошли под гостеприимный кров «Гуртовщиков», буфет был набит битком, а в зале лишь несколько наиболее смелых пар напоминали о том, что явились мы на бал. Однако время шло, к ним присоединялись все новые, и к десяти часам в зале уже яблоку упасть было негде. Я же вскоре понял, что проведу время отлично. Компания Тристана оказалась очень приятной – симпатичные мальчики, привлекательные девочки. Жизнерадостная их беззаботность была неотразимой.
Общему веселью немало содействовал прославленный оркестр Баттерфилда в коротких красных куртках. Самому Ленни на вид было лет пятьдесят пять, да и все четверо его бравых ребят уже давно распростились с молодостью, но свою седину они искупали неугасимым задором. Впрочем, волосы Ленни седыми не были – краска помогала ему оставаться жгучим брюнетом, – и он колотил по клавишам рояля с сокрушающей энергией, озаряя общество солнечными взглядами сквозь очки в роговой оправе, а иногда выкрикивал припев в микрофон у себя под боком, объявлял танцы и отпускал шуточки зычным голосом. Нет, полученные деньги он отрабатывал честно.
Наша компания на парочки не разбивалась, и я танцевал со всеми девушками по очереди. В разгар бала я проталкивался по залу с Дафной, чья фигура была словно нарочно создана для такой тесноты. Поклонником тощих женщин я никогда не был, но, пожалуй, природа, создавая Дафну, несколько увлеклась в противоположном направлении. Нет, толстой ее никак нельзя было назвать, просто она отличалась некоторой пышностью сложения.
Сталкиваясь в давке с соседними парами, столь же увлеченно работающими локтями, восхитительно отлетая от упругих форм моей дамы, вместе со всеми подпевая бравым ребятам, которые в бешеном ритме колошматили по своим инструментам, я чувствовал себя на седьмом небе. И тут я увидел Хелен.
Танцевала она, разумеется, с Ричардом Эдмундсоном, и шапка его золотых кудрей плыла над окружающими головами, как символ Рока. С магической быстротой мое радужное настроение угасло, оставив в душе холодную тягостную пустоту.
Когда музыка смолкла, я отвел Дафну к ее друзьям, а сам отправился на поиски Тристана. Небольшой уютный буфет отнюдь не опустел, и там вполне можно было бы изжариться. В густом табачном дыму я с трудом различил Тристана – он восседал на высоком табурете в окружении обильно потеющих участников веселья, но сам, казалось, ничуть от жары не страдал и, как всегда, излучал глубочайшее удовлетворение. Он допил кружку, причмокнул, будто лучше пива в жизни не пробовал, перегнулся через стойку, дружески кивая, чтобы ему налили еще, и тут заметил, что к нему протискиваюсь я. Едва я оказался в пределах досягаемости, он ласково положил руку мне на плечо.
– А, Джим! Рад тебя видеть. Чудесный бал, ты согласен?
Я воздержался и не указал на бесспорный факт, что он еще ни разу в зале не появлялся, а только самым небрежным тоном упомянул, что вот и Хелен здесь.
Тристан благостно кивнул.
– Да, я видел. Так почему же ты с ней не танцуешь?
– Не могу. Она тут с Эдмундсоном.
– Вовсе нет, – возразил Тристан, критическим взором оглядывая новую кружку и делая предварительный глоток. – Она приехала с большой компанией, как и мы.
– А ты откуда знаешь?
– Видел, как мальчики вешали пальто вон там, пока девочки поднялись раздеться наверх. Значит, можешь ее пригласить, ничьего разрешения не испрашивая.
– А‑а! – Я еще немного постоял, а потом решительно вернулся в зал.
Но все оказалось не так просто. У меня был долг перед девушками нашей компании, а когда их всех успевали пригласить другие и я направлялся к Хелен, ею тут же завладевал кто‑нибудь из ее друзей. Иногда мне казалось, что она ищет меня взглядом, но уверен я не был, а знал только, что никакой радости от бала больше не получаю, что волшебство и веселость исчезли бесследно. С горечью я предвидел, что и на этот раз обречен тоскливо смотреть на Хелен – и ничего больше. С той лишь тягостной разницей, что и двумя словами с ней не обменяюсь.
Мне даже стало как‑то легче, когда ко мне подошел управляющий и позвал к телефону. Звонила миссис Холл: сука никак не разродится, так не приеду ли я сейчас же? Я взглянул на свои часы – далеко за полночь. Значит, на этом бал для меня кончается.
Секунд пять я постоял, прислушиваясь к чуть приглушенному грохоту музыки, потом медленно натянул пальто и пошел попрощаться с друзьями Тристана. Коротко объяснив, в чем дело, я помахал им, повернулся и толкнул дверь.
За ней, в двух шагах передо мной стояла Хелен, чьи пальцы слегка касались дверной ручки. Я не стал размышлять, вышла ли она или только собирается войти, а немо уставился в ее улыбающиеся синие глаза.
– Уже уходите, Джим? – спросила она.
– Да. У меня, к сожалению, вызов.
– Какая досада! Надеюсь, ничего серьезного?
Я открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг ее красота заслонила от меня все. Я чувствовал только, что она совсем рядом. Меня поглотила волна любви и безнадежности. Я отпустил дверь, схватил руку Хелен, точно утопающий, и с изумлением ощутил, что ее пальцы крепко сплелись с моими.
Оркестр, шум голосов, люди – все куда‑то исчезло, и остались только мы двое в дверном проеме.
– Поедем со мной, – сказал я.
Глаза Хелен стали огромными, и она улыбнулась мне такой знакомой улыбкой.
– Я только сбегаю за пальто, – шепнула она. Нет, это мне грезится, думал я, стоя на ковровой дорожке в коридоре и глядя, как Хелен быстро поднимается по лестнице. Но тут же убедился, что я все‑таки не сплю: она появилась на верхней площадке, торопливо застегивая пальто. Моя машина, терпеливо дожидавшаяся на булыжнике рыночной площади, видимо, тоже была застигнута врасплох – во всяком случае мотор взревел при первом нажатии на стартер.
Мне надо было заехать домой за необходимыми инструментами. И вот мы вышли из машины в конце безмолвной купающейся в лунных лучах улицы, и я отпер большую белую дверь Скелдейл‑Хауса.
Едва мы очутились внутри, как с полной уверенностью, что иначе нельзя, я обнял Хелен и поцеловал – благодарно и не спеша. Столько времени я мечтал об этом! Минуты текли незаметно, а мы все стоял